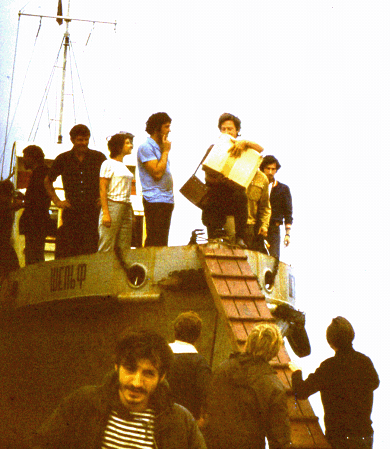| Гостевая | yurishmukler@yahoo.com | Ю. Б. Шмуклер | Галерея | О себе |
|---|---|---|---|---|
| Новости | Летопись текстов | Из дальних странствий | Моя семья и другие звери | |
| Биологическое | ЦСКА | Друзья и родственники | Генеалогия | Бреды и анекдоты |
| Хохмы и афоризмы | В сущности оранжевый... | Стишки и хокку | Долгое падение на камни | Чашечка кофе |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Долгое падение на камниДесять лет химииНачалась моя многотрудная карьера в Купавне, продлившаяся целых 10 лет. На самом деле в самом поселке Старая Купавна я появлялся, как и большинство сотрудников, только по большим праздникам (имеются в виду дни зарплаты – долго не могли наладить перевод нашей зарплаты через московские лаборатории, а, когда наладили – перестали туда ездить почти совсем). Перед экспедицией по нескольку раз таскался в бухгалтерию канючить деньги да раз в год – на то, что там было вместо овощебазы. А так (если не кушать), работал я в Институте биологии развития АН СССР, который как раз вскоре после моего появления получил имя Н.К.Кольцова[1]. Там я тоже отрабатывал на овощебазе, ходил в народную дружину, строил новый корпус, «а также все, что понадобится впредь». Ценой полутора потерянных лет, я сделал скачок в карьере – сразу, через аспирантскую и старлабскую ступеньки получил научную должность, а, следовательно, мне начал капать научный стаж, что сказалось после защиты. Забавно или удивительно то, что, когда я явился к Циле с докладом об уходе по собственному желанию, она сделала большие глаза и спросила – почему? У меня была пара слов насчет того, как мне славно на 48 рублях с молодой женой и практически без перспектив, но из благодарности за то, что она для меня сделала, повел себя благонравно, что-то промямлил и поставил бутылку на «отвальную». Потом оказалось, что Циля так отреагировала не только на мой уход – Наташка Балезина, уже защитившись и просидев на ставке старлаба год, т.е. не получая за степень ни копейки, нашла себе место в Институте ВНД. Когда она явилась к Циле – прощаться, та ей чуть ли не скандал устроила – почему Наташка уходит, она, Циля, на нее рассчитывает! Поссорились… Наташка потом год на кафедру не заходила, а я – года три – хвастать особо было нечем, а хотелось – с понтом явиться в свои палестины и выложить эпохальные достижения. * * * Поначалу мне статус прикомандированного к ИБРу на психику не давил нисколько – я так намаялся по отделам кадров, получил столько плевков в физиономию, что само ощущение, что я все это превозмог, перетерпел, было подавляющим. Тем более, что попал я в Институт, который славился своей доброжелательной, нежлобской атмосферой даже в относительно (для Советской страны) интеллигентной Академии Наук. Настоящая проблема была во мне – за полтора года после окончания универа я практически толком ничего, если не лукавить перед самим собой, не делал и основательно обленился. Пока был на кафедре, психологическое оправдание – под рукой: все равно ни фига не платят, защититься дадут к собственному заговению – и что уродоваться? А тут надо было работать, к тому же доктор Бузников занимался весьма специфическими делами. Работа была сезонная и экспедиционная, и руками сей момент делать было нечего. Задания, которые Генсеич выдал мне на первых порах, были малонаучного порядка. Во-первых, считалось, что купавинской группе нужна своя жилплощадь, потому что в ИБРе мы и, вправду, сидели друг у друга на голове. И пошел я по райисполкомам, школам и всяким лавочкам. Однако ж, когда я являлся с предложениями, ГА как-то смотрел на это через губу, после третьего раза до меня дошло, что – это ритуальное телодвижение перед завлабом – Тиграном Турпаевым, а на самом деле, Генсеич никуда из ИБРа уходить не хочет. Ну, я потихоньку эту бессмысленную деятельность и прикрыл. Во-вторых, Генсеич тогда был в крайности увлечен сообщением д-ра Киддера “Mulinia lateralis – molluscan fruitfly?” – то бишь, не моллюсочная ли это дрозофила. Масса у этой твари была всяких лабораторных преимуществ, и всего-то и надо было – наладить производство морской воды в количестве тысяч литров, наделать кучу аквариумов, систем водоочистки и пр. Объективно – это отдельная работа, на которую уходит вся жизнь, а иначе ничего не добиться. Я потом видел, каково это, наблюдая за работой Вити Найденко на Витязе. В общем, начитался я всяких книжек, потратил кучу времени, но кроме общей эрудиции это мне мало, что дало. Да и не очень-то пошла эта Мулиния и у других. * * * Первый звоночек, что я в ИБРе не такой, как все, прозвучал довольно быстро при анекдотических обстоятельствах. На каждую лабораторию выделили по одной подписке на академический десятитомник Пушкина. Те, кто в этот день были на работе, собрались, покидали в шапку бумажки – и я, чуть ли не единственный раз в жизни, выиграл! Не надо было мне этого делать... Дошел до меня слушок, что кое-кто из коллег, особо не склонных делиться, выразили недовольство тем, что Пушкин достался мне, и что купавинские вообще были допущены к дележу матценностей. А еще недели через три на лабораторию выделили уже билеты в «Алмазный фонд», куда с улицы тогда попасть было нельзя. Вот тут уже в открытую было заявлено, что «пиво – только членам профсоюза». Связываться не хотелось, а мне-то вообще было не с руки: доказывать свою полноценность – унизительно, а я еще и Пушкина выиграл. Однако ж, место мне указали… * * * В самом трудового пути, весной 74-го, мы временно осиротели – Бузников, Манухин и Турпаев надолго отвалили в Котор, далекий забугорный Эдем, который для меня был баснословным целых 15 лет, пока я там, в конце концов, не оказался сам. А пока они там вкушали прелести почти буржуазной роскоши, в Институте разразился скандал, по тем временам близкий к катастрофическому. Завлаб Института Илья Шапиро, поехавший в Италию под поручительство Татьяны Антоновны Детлаф, там и остался, да еще политического убежища попросил. За Институт взялись. Директора Института Бориса Львовича Астаурова – генетика еще довоенной выучки, работавшего с самим Кольцовым, Четвериковым и другими основателями этой науки в СССР, таскали в райком и измывались. Тигран Турпаев, бросив все, примчался в Москву и принял участие в обороне. Генсеич и Манухин вернулись даже позже, чем планировали, потому что использовали сэкономленные Турпаевым дни. Вскоре после их возвращения решили мы с Нелей Теплиц, наконец, «проставиться» в связи с зачислением. Неля должна была принести торты, а я – бутылки. Как положено, явился к 9.30, брякая припасом в портфеле, а в Институте мне и говорят: - Борис Львович умер! «Проставка» отменилась сама собой, куда-то меня послали по делам, и метрах в 50-ти от Института я встретил Нелю, изнывающую под тяжестью тортов. Порадовал ее... Врать не буду – Астаурову представлен не был, видел его всего пару раз. Вся ситуация воспринималась как происходящая намного выше моей головы – паны дерутся. А, между прочим, могло и меня коснуться, чего не понимал по неопытности. Институт и так был в райкоме, а то и где повыше, на нехорошем счету. Кадры – изрядно засорены (в смысле – полно евреев), в завлабах продолжает числиться выпертый из партии СанСаныч Нейфах, позволивший себе «фэ» политике КПСС в письменном виде – ему, видите ли, ввод советских войск в Чехословакию не понравился, да еще он имел наглость отказаться признать свою тяжкую вину (хотя обещали, что, если покается, даже из партии не исключат – это, между прочим, был бы совершенно безграничный либерализм и всепрощение с их стороны). Дело было в 68-м, а он и в 74-м все в завлабах! Надо было всем выдать, чтоб мало не показалось! Ну, и выдали. Правда, после смерти Бориса Львовича все это имело несколько меньший размах, чем можно было ожидать – по-моему, они то ли удовлетворились уже содеянным, то ли содеянного испугались, влепили несколько выговоров, Нейфаха в конце концов погнали из завлабов, но от Института пока отцепились. Тигран стал и.о. директора, и было ясно, что во благовременьи и просто директором станет. А у меня были другие заботы – с дальнезеленецкой морской станции должны были привезти первого в моей жизни морского ежа – Strongylocentrotus droebachiensis. Заботы по подготовке к привозу были на нас с Лариской Мартыновой, в то время курсовичкой, которая, как и я, ни фига в этом тогда не понимала. Но задача номер один лежала на мне – начитавшись Киддера, решили мы к нашим аквариумам приделать фильтры водоочистки. В мастерской Института под чутким руководством Немировского (тогдашнего зава мастерской) я участвовал в кройке и клейке плекса для корпусов, сверлил сотни дырок в прокладках, а, главное, добывал фильтровые материалы. Нужны были песок, гравий, активированный уголь и стекловата. Ничего этого, естественно, в Институте не было. Первой решилась проблема с песком – кто-то из лаборатории на Ленинском, 33 увидел кучу чудного кварцевого песка. Я схватил какие-то свободные емкости и рванул к куче и затарился, постоянно опасаясь, что вот сейчас меня возьмут за хвост – за кражу казенного имущества… Оказалось, что припер за километр 50 килограмм песка… Потом мой папа на одной из московских ТЭЦ договорился насчет угля, это я уже вез на институтской машине, гравий оказалась у меня последним – завснабжением Шапкин говорил, что его можно купить только, начиная с полтонны… Однако ж, он сам, будучи по делам в Южном порту, нагреб мне в какую-то тумбочку килограмм 30 этого материала и привез. Чистой стекловаты так и не нашли, и пришлось заменить ее обычной. Эйр-лифт для подачи воды в фильтры мне сделали в университетском Молекулярном корпусе за 40 рублей – это создало трудности, потому что денег не было, обычно расплачивались спиртом, а тут попались непьющие… Задача номер два была – сделать полкубометра морской воды для аквариумов, в которых ежей передерживали, и сколько-то десятков литров – для работы. Между прочим, полкубометра – это 500 килограмм воды, а к ней – тринадцать килограммов поваренной соли и куча еще всяких других. Аквариумы стояли в холодной комнате при +4оС, поскольку и ежи–то – холодноводные, баренцовоморские. По летнему делу – это особый кайф – в ватнике с прижатой к пузу 25-литровой бутылью дистиллята пробежаться по крутой лестнице в подвал, одной рукой отвалить тяжелую дверь холодной, протиснуться внутрь, а потом держать бутыль навесу, покуда все 25 литров оттуда не выбулькают. И так 20 раз. Все расчеты мы с Лариской делали сами, и нам казалось, что все сделано правильно – вода была на вкус вполне противная, такая прозрачная и красивая в отмытых нами аквариумах. Привезли ежей, они там весело перебирали иголками, ползали по стенкам, вроде все ОК. Ан, стали пробовать икру – ни фига не оплодотворяется! Стали разбираться – напортачили мы в расчетах – перепутали граммы на литр с граммами в литре, и те 25 литров, что мы заготовили для работы пришлось вылить. Не знал, куда глаза девать... Работа, по первости, заключалась в простой калибровке эмбриостатической активности препаратов, но мне и того хватало – я впервые увидел развитие морского ежа. Совершенно завораживающее зрелище, даже на холодноводном еже, где от оплодотворения до первого деления – 4 часа, а минут через 15 наблюдений леденеют пальцы и начинает трясти, несмотря на ватник. Тогда же случился мой дебют на ниве научного левака. Вдруг в институте возникла тетенька, ну не тетенька, вполне еще свежая дама, которую каким-то образом все знали. Она на ЦСДФ снимала фильм под рабочим названием «Он или она», так я его потом никогда и не увидел. И ей нужен был демонстративный процесс оплодотворения. А у кого это процесс демонстративен до живописности? Знамо, у морских ежей, а совсем не то, что вы подумали. И вот меня поднаняли – оплодотворять. Целый рабочий день я оплодотворял – стоял у микроскопа, на который они присобачили кинокамеру, с пипеткой и капал сперму в лунку с яйцеклетками, и сперматозоиды трудолюбиво толпились вокруг них, а самые удачливые проникали внутрь, и тогда в кадре возникала шикарная реакция активации – в месте проникновения сперматозоида вырастал пузырек, который постепенно охватывал яйцеклетку, окружая ее красивой, в конце концов – совершенно круглой оболочкой оплодотворения. За этот сексуально-гигантский труд мне, надо признать, и заплатили гигантски – целых 90 рублей. Вы не поверите, но я, идиот сопливый, вместо того, чтобы подарить что-нибудь молодой жене, заказал на эти деньги усилитель биопотенциалов, да еще доплатил 10 литров спирта. Возился потом с ним, возился, а толку так и не получилось. Мы еще дважды пытались что-то делать электрофизиологически с нашими яйцами, но получилось только 25 лет спустя в Неаполе, а те наши попытки, как теперь понятно, были идеологически обречены на провал, только тогда этого никто не знал. Потом оказалось, что на ЦСДФ пленку загубили при проявке, и мне снова обломился приработок – еще день сексуального гигантизма, но на этот раз – только за 50 рэ. Вот эти деньги мы уже просто проели. У меня всего-то было 105 рублей в месяц, а у Таньки – стипендия – рублей 40. Кстати, тогда я сделал для себя вывод – чем дурей работа, тем больше за нее платят. Только эта дурь редко перепадает. Потом началась эпопея выбивания денег на дальневосточную экспедицию. Работа ГА тогда была практически полностью ориентирована на иглокожих, с которыми можно было работать на Севере, Дальнем Востоке и в Югославии. Если бы деньги не удалось выбить к сроку – можно было бы считать год пропавшим зря. Главбухша Купавны, пышная моложавая дама типа «три пирожных сразу» на наши запросы смотрела с недоумением и неудовольствием – деньги-то немалые по тем временам – 107 рублей 65 копеек билет до Владивостока, полевые (про существование которых она и не ведала), 25% прибрежных – что-то слишком шикарно для какой-то группы. Однако, после третьего или четвертого звонка ГА Пирузяну пришлось ей оторвать от своей немалой груди средства, которым так было бы хорошо в фонде экономии заработной платы, откуда бухгалтерия получала годовые премии. Потом эта интермедия с деньгами, повторялась каждый раз следующие 9 лет. * * * В конце концов я на Дальнем Востоке оказался. Черт подери, это стоило всех предыдущих мучений. Один перелет с засидкой часов на пять в Хабаровске чего стоил, в этой дыре мне еще предстояло провести в общей сложности недели ни с чем не сравнимого кайфа. Потом – Владивосток, на самом деле такой же убогий, как все наши города, но безумно красивый на своих сопках, окружающих Золотой Рог. Правда, первая встреча была знаково оформлена хвостом тайфуна, который прямо перед нашим прилетом посетил город. Переходя через подземный переход под пр-кт 100-л. Вл-ку[2] по щиколотку в воде, мы увидели, как идущая впереди женщина с авоськами оступилась и упала в яму с водой, которая оказалась достаточной, чтобы она там стала тонуть, потому что ни в какую не хотела выпускать из рук свою поноску. Потом развиднелось, показалось солнце и жить стало веселей. Еще красивше Владивосток оказался с моря – белый красавец-город, такое наше Рио-де-Жанейро. Это только вблизи становилось видно убожество фанз, грязь порта и тоска хрущовок. На Владик с моря я первый раз взглянул с кормы уходящего из Золотого Рога катера «Аркадий Гайдар», который вез нас в бухту Витязь на морскую экспериментальную базу, принадлежавшую в то время ТИБОХу и ИБМ[3] на паях. В то время там царил Сова. Совершенно уникальная и неуместная в Советской стране личность. Прирожденный менеджер западного типа, помешанный на комфорте, шике и стремлении к международному уровню в наших сермяжных условиях. Наверное, только совиная вулканическая энергия могла создать то, что мы увидели на Витязе. Счетчик радиоактивности, несколько вполне крутящихся ГДРовских центрифуг, весы, микроскопы. И ватерклозет, чего уж никак в тамошних условиях ожидать было невозможно. Впоследствии это заведение украсилось биде, которое Сов воздвиг для своих лабораторных дам. Учитывая то, что Владивосток – на широте Сухуми, а Витязь – еще южнее, это было самое юго-восточное биде в СССР. Сама лаборатория помещалась в адаптированном для биологических потребностей типовом сборном кафе «Уралочка», поставленном прямо у уреза воды. В тайфун волны ходили под помостом у входа. За лабораторией высился сборный ангар, ломящийся от запасов солей, всякой биохимии и еще черт-те чего. Над лабораторией на плоской крыше был собран еще и домик, в котором обитал сам Сова, пол был застелен шкурой белого медведя, естественно там стояли магнитофон и телевизор. Когда наши играли с канадцами, телевизор стащили вниз, знакомые совские офицеры на БТРе прикатили генератор (после одиннадцати витязьский дизель отрубали, и мешалки приходилось крутить вручную всю ночь), и все смотрели хоккей до утра. И все это было воздвигнуто буквально за несколько месяцев 73-го года, когда военные эвакуировали из Витязя базу подплава – тогда, за военной опасностью, которую со стороны Китая многие считали вполне серьезной, точки передового базирования ТОФ перенесли из южных приграничных бухт на север – в Ольгу и Терней. Задачу мне Генсеич сформулировал достаточно широко – Юра, надо бы посмотреть, как участвуют медиаторы в межклеточных взаимодействиях (до того внимание было сосредоточено на связи медиаторов с клеточным делением и эмбриональной моторикой). Между прочим, он считал, да и писал в статьях, что непосредственное участие медиаторов в ранних межклеточных взаимодействиях невозможно. Исходной моделью для меня должна была послужить статья японца Шонана Амемии, что-де если с личинки морского ежа удалить реснички, а потом развалить личинку на отдельные клетки, то регенерация ресничек будет происходить только, если клеткам дать реагрегировать – т.е. собираться в кучки не меньше десяти. А это означало, что процесс регенерации, а можно думать – и нормальное формирование ресничек, зависел от межклеточных взаимодействий. Это был первый и, по-моему единственный, в моей практике случай, когда удалось методику повторить с первого раза. Действительно, реснички опадали, и бластулы разваливались по первому требованию. Я на радостях бросился на «побритых» личинках пробовать нашу фармакологию, даже что-то стало получаться, а потом, когда повнимательнее в контрольных опытах присмотрелся к восстановлению ресничек – батюшки, да там же одиночные клетки плавают через 4 часа! На фиг им не нужны межклеточные взаимодействия для этого! Подумал, может эти одиночки восстановили реснички в составе агрегата, а потом оторвались, стал проверять, – развел суспензию до очень жидкой – черта лысого! В жидкой суспензии поплыли одиночные клетки, как миленькие! Вся исходная посылка для работы оказалась форменным фуфлом, и лавочку надо было закрывать. По инерции гнал опыты по влиянию всякой фармакологии на регенерацию ресничек, и даже додумался самостоятельно до опытов по влиянию ее на формирование ресничек в ходе естественного развития, но внутри себя уже ясно понимал, что это – побочная работа, которая к поставленной цели не ведет нисколько. Однако ж, опыта обращения с ежом набрался. Нагляделся я там и на дальневосточную экзотику. Шел как-то в лабораторию, естественно, читая на ходу, и вдруг, боковым зрением засек что-то на дорожке. Что-то нехорошее, а потому так и застыл с задранной для следующего шага ногой. И правильно сделал – через дорожку, не спеша, переползал щитомордник длиной метра полтора. Вполне достаточный, чтобы, при случае, мою карьеру закончить. Животное, вообще-то, не агрессивное, но изрядно ядовитое. Сам не атакует, но вряд ли стал бы терпеть, что ему наступили на голову. Местные щитомордники это неоднократно доказывали. Несколько лет спустя доктора Смолянинов и Хашаев, обнаружили щитомордника и решили его поймать. Володя Смолянинов сказал: - А я знаю, их ловят рогулькой! Расставил пальцы и ткнул в животное. Щитомордник между пальцев проскользнул, но наглых приставаний терпеть не стал, извернулся и тяпнул один из пальцев «рогульки». Счастье, что на станции нашлась сыворотка, которую Володе и вкатили немедленно, и он только промаялся с раздутой, как дирижабль, рукой дней пять. Кругом бухты стояли довольно высокие сопки, а на противоположном берегу – просто самая высокая сопка южного Приморья – Туманная, около 530 метров, т.е. почти с Останкинскую башню, но несравненно более монументальная. Склоны ее были исчерчены странными просеками, сходящимися к вершине. Долго не мог понять их назначения, пока кто-то не объяснил, что просеки – артиллерийские – по реперам в конце просек батарея разведки давала угловые отсчеты орудиям, которые когда-то во множестве были рассеяны по берегам полуострова Гамова – в довоенные времена почти пограничного – в створе бухты Витязь километрах в 25 в хорошую погоду всегда был виден остров Фуругельма, на котором японцы вырезали нашу погранзаставу и до окончания войны сидели на нем. Впервые в жизни там, на Витязе, я своими глазами увидел, что такое – живое море. До этого мой опыт ограничивался Балтикой, Черным и Белым морями. Но первые два – морями-то могут считаться с большими оговорками, а в Белом не очень-то поныряешь. Очень хорошо помню, как на практике на ББС летом 70-го мы, исполненные мысли, что раз мы на море, так надо купаться, отправились на берег. Разделись и собрались прыгать в воду. Не знаю, что меня заставило сначала сунуть в воду ногу – обычно я в воду старался прыгнуть разом, чтобы не мучиться долго, так и в Москву-реку как-то прыгнул в начале мая – оказалось 8 градусов – ощущение совершенно, как при ожоге. А тут – стоило опустить в воду ступню, как сразу возникло ощущение, что пальцы из нее кто-то с силой выворачивает, и желание купаться как-то сразу ушло. А тут – в Японском море, в августе, вода была – вполне. А там! Растительность, камни и, главное живность – ежи и звезды разных видов, офиурки, моллюски, и все это живет и шевелится. Довольно много лет спустя я видел, как Женька, в то время 14-ти летний, совершенно сходит с ума от моря в проливе Старка на острове Попова. Из воды он вылезал только уже совсем синего цвета, трясясь крупной дрожью, но через некоторое время лез снова. Боюсь, что и та поездка, и все эти морские сувениры, которые я ему годами таскал из экспедиций, сбили мальчика с пути и повели по нехорошей дорожке биологии. Самая вкусная тварь в море (из доступных) - гребешок, но он живет очень глубоко – метрах на 15-ти, дотуда я не доныривал и наблюдал его в воде только в ваннах витязьской аквариальной. Лежит, лежит, а потом – как хлопнет створками и полванны перемахивает одним прыжком. Никак от него такой прыти не ожидаешь – он ведь каменный на вид и совершенно неподвижный. Гребешок мне доставался только, когда кто-то из ребят нырял с аквалангом, а я ползал на 3 – 5 метрах – ежей для работы собирал. После метров семи мне здорово уши прижимало – это мои детские воспаления среднего уха отзывались да и мерз я быстро – сказывалось отсутствие подкожного жира. А есть гребешка надо сырым – прямо на берегу ножом перерезаешь связку-замыкатель створок, вырезаешь мускул, если есть – приперчиваешь, и лопаешь. Вкус очень своеобразный, с консервами гребешка ничего общего не имеющий. Чаще все же мускул мариновали с уксусом и луком – тогда получается выдающаяся закуска под водку (спирт), а мантию жарили, тем не раз спасаясь от голода, который меня там доставал почти постоянно. От голода еще очень хорошо помог один случай. С нами параллельно на Витязе работали сотрудники «овчарни»[4] Нина Проказова и ее шеф(?) – Вавер, они сидели в доме, который по традиции, оставшейся от военных, называли госпиталем. Потом они укатили, а мы еще оставались. И вот как-то является Сов, очень мрачный (он еще и заводил себя, потому что надо было говорить неприятности Бузникову, старшему по возрасту, званию, а главное – уму). Что-то он, тем не менее, Генсеичу сказал, а тот объяснил, что за Вавером в лаборатории остался какой-то срач, а мы как москвичи теперь должны за ним выгребать. Наташка Звездина и Неля скудались здоровьем и постоянно тошнили, потому чистить эти авдеевы конюшни предстояло нам вдвоем. Вавер натаскал в лабораторию невероятное количество морских животных, которые там и гнили, распространяя характерный мерзкий запах. Самоотверженная Наталья потащилась было с нами, но, только нюхнув ваверовского амбре, вылетела оттуда пулей – заниматься любимым делом. Мы-то, небеременные, могли только вбегать и выбегать с очередным куском дерьма, у меня запах из ноздрей улетучился нескоро, да и аппетит куда-то пропал. А в той, первой, экспедиции досталось мне еще одно приключение или тест на выносливость. В первую же неделю работы случился тайфунчик – не тайфун, а так... Работать, однако ж, стало невозможно – ежей выболтало, и икры в них не было нисколько. Сроки всех поджимали – и нас, и совских. И тогда Сов, находившийся где-то на вершине своего могущества, раздобыл сейнер, кэп которого согласился обойти залив Посьета в поисках тихого от ветра местечка, где ежи могли сберечь свои икряные запасы. На борт взяли водолазов – нырять и, по рекомендации Генсеича, меня в качестве эксперта по качеству материала. Если учесть, что к тому времени я с ежом прообщался дня три и едва разобрался, где ствол, а где приклад, экспедиция получила классного специалиста. Впрочем, демонстрировать свои умения мне не пришлось – едва мы выкатились из гирла бухты, как нас повалило на борт весьма свежим ветерком и крутой волной. Может по неопытности, а может – инстинктивно, я забрался повыше – между мостиком и вентиляционными трубами на надстройке. Качало там посильнее, зато получше был виден берег, на который я стал смотреть, чтобы не укачаться. И все время – свежий ветер в физию, что тоже помогало – надо было сберечь себя для науки, когда водолазы достанут ежа, надо быть не ублеванным до бессознательного состояния, а – во всеоружии. На самом деле всем было ясно, что при такой погоде никаких тихих мест в заливе не осталось, и надо ползти домой, расслабиться и попытаться получить от этого удовольствие. Но, не таков был Сов, который исповедовал принцип моей бабули «усрамся та не пiдамся!», качку он переносил хорошо и решил дотошно обойти все потенциально тихие места залива. Добежали чуть не до самого Посьета, но при любой попытке застопорить водолазы начинали орать, что они и думать не желают погружаться при таком волнении с встающих чуть не на попа «калошек». В конце концов, устал я от борьбы с качкой и впечатлениями и уснул, обняв для устойчивости вентиляционную трубу. Проснулся от того, что не качает, кругом причальные бочки – мы зашли в защищенный от ветра Витязь. * * * Летом 75-го года мы с Танькой провели наш последний «бездетный» отпуск. Вместе с моим однокашником и другом Витькой Волковым и Танькиной однокашницей Ольгой Саввиной, которая активно ухлестывала за Витькой, мы отправились по туристическим путевкам по Армении и Грузии. Начало было впечатляющим. Посадка в аэропорту Еревана «Звартноц» - удовольствие весьма специфическое. Самолет переваливает гребень гор, а потом на глиссаде скользит над склоном на очень малой высоте – каждый камешек видно в иллюминатор. Сразу жара. Толчея в аэропорту, автобуса в город не видно. Впятером, с еще одной попутчицей, берем такси. Водитель, не включая счетчика, почему-то не выворачивает не на дорогу, а петляет какими-то дворами и огородами, потом все-таки оказываемся на шоссе. Я боковым зрением успел приметить причину столь странного маршрута – мы таким макаром миновали пост милиции. Въехали в город, проехали несколько улиц – шофер вдруг щелкнул счетчиком, потом выключил. Потом – снова. Только с третьего раза до меня дошло, что счетчик включался при виде милиционера – тогда на переполненной машине гас зеленый огонек. В конце концов добрались до гостиницы «Норк» на одноименной горе. Тут шеф и перешел к завершению операции и сказал: - Три рубля! Которые немедленно и получил. – Нэт! С каждого! - А вот это – обойдешься! (По-нашему, по-советски, там должно было накрутить рубля два с полтиной). Шеф решил, что я не сразу его понял и попер за нами в гостиницу. Как-то получилось, что я за старшего – остальные растворились в окружающей среде. Шеф мне все повторил, с тем же результатом, потом то же самое – но матом. Я это все внимательно выслушал и сказал ему, что он сам - такое слово. Шеф, отчаявшись выбить больше того, что ему было положено, ушел, а Танька подошла и сказала: - Слушай, я знала, что ты и английский знаешь, и чешский, и болгарский, но что и армянский! Так она, по своей невинности, восприняла наш обмен чисто русскими матюгами. Следующая интермедия разыгралась при поселении. Времена были еще самые, что ни на есть советские, и о поселении неженатых в один номер и речи быть не могло. Это было чистое арапство, но мы представились двумя супружескими парами, а показали только наши с Танькой паспорта – глядя на нее, окружающие с трудом верили, что это замужняя дама. А Волков с Саввиной, как раз выглядели попредставительнее, и шли как супруги by default. Удивительно, но сработало! Только в Поти, когда мы жили вчетвером в одной комнате, нас вдруг вызвали в администрацию и, размахивая паспортами, стали укорять в незаконном совместном проживании. Я, однако, углядел, что машут моим паспортом и Саввинским, и с видом оскорбленной добродетели заявил решительный протест против того, что мне навязывают женщину, с которой я никогда в интимных отношениях не состоял, что я люблю совсем другую, о чем сделан штамп в совсем другом паспорте. Потом вытащил у нее из пачки Танькин паспорт, продемонстрировал штамп, находящийся во взаимнооднозначном соответствии с моим собственным, и принялся их всячески щунять, упирая на оскорбленную мораль. Заунижал так, что мысль проверить взаимнооднозначное соответствие другой пары паспортов им уже в голову не пришла. Забавно, что наутро после первой ночевки Витька с Ольгой вышли на завтрак помятые и невыспавшиеся (что я, хм, было посчитал естественным), и пожаловались, что совершенно не спали (ну, ну, нормально, но что ж об этом звонить), потому что их заедали клопы (тьфу! Все испортили). Так что, первым делом мы отправились в магазин за каким-нибудь антиклопином и залили их кровати густым слоем этой жижи. Когда на следующее утро выяснилось, что клопы, напившись этого средства, совершенно озверели, пошли жаловаться в администрацию и просить переселить. Те мгновенно согласились, сопроводив это характернейшим комментарием: - А! Там из Баку жили! А дальше началась туристическая жизнь, причем первые два или три дня нас практически никто не трогал, и мы шлялись по Еревану совершенно самостоятельно. Город почти весь советский, памятников в нем самом практически не было, но дома из розового туфа, хотя и обезображенные сталинским стилем, все-таки показались очень своеобразными и радовали глаз. Неплохая картинная галерея с неизбежным Айвазовским и неизвестным нам Гюрджяном. Потом включилась туристическая программа, поехали в Эчмиадзин, Звартноц, Гегард (все – в относительной близости от Еревана). Последний, скальный храм, произвел на меня наибольшее впечатление, сталактитный потолок, освещенный прорывающимися через какие-то отверстия лучами дневного света, потрясающая акустика в каком-то зале, такая, что кажешься самому себе Николой Гяуровым. Потом поехали по Армении – Севан (холодно и сыро), Кировакан, Дилижан, Иджеван, Степанаван – города, ничего особенного собой не представляющие, но монастыри – Агарцинский и Ахпатский – просто чудо! Там даже до моих архитектурно тупых мозгов доходила необыкновенная красота. Мне все ж таки не очень нравится «божественная простота» древнерусских и романских храмов – как-то веселей мне в поздней готике, а армянская архитектура с ее своеобразием, разнообразием, множеством филигранных архитектурных и скульптурных деталей – это просто праздник. А в монастырях концентрация этих красот – храмов, корпусов, хачкаров – колоссальна. Еще в Армении у нас сложился обычай каждый вечер покупать пару бутылочек местного вина (в Армении – очень посредственного) и в каждом городе пробовать местный шашлык. Шашлыки, что в Армении, что в Грузии были очень скромного размера за довольно нескромную (по российским понятиям) цену, а вот качество вина после пересечения республиканских границ (долина какой-то речонки метра в три шириной) разительно изменилось – грузинское не в пример лучше. А вот коньяк грузинский – как вино армянское. В Грузии, как выяснилось, главное мы с Танькой повидали еще летом 73-го – Мцхета, Джвари, Самтавро, Светицховели. Но все равно – приятно. А финишировали, как уже было упомянуто, в Поти – считалось, что это отдых на море. Более засранного моря и вспомнить-то трудно, только что – потом в Сухуми, где в море людей было больше, чем воды. Наши коттеджи, место в котором я храбро отстоял в борьбе с местными блюстителями нравственности, располагались метрах в 150 от воды, и вся эта полоса была густо заселена комарами, которые жить нам не давали. До такой степени, что на третий день прилетел «кукурузник» и обработал всю прибрежную полосу какой-то гадостью. Лекарство, надо сказать, было не лучше болезни. В Сухуми добрались на Ан-2 – первый и единственный раз в жизни. Классная штука – мотоцикл такой летающий, дверь проволокой прикручивали. Летели на высоте метров 100, садились на летное поле наискосяк. Искупались в «супе с клецками» и заглянули в знаменитый местный обезьянник – там братья наши старшие с божественно деловым видом занимались любовью. * * * Совершенно непростительно, что я в следующую экспедицию поехал с целью доделывать ту же работу, что начал в первой и сам же доказал ее бесперспективность. Были всякие затеи, на которые уложил немало сил и времени, но, как я теперь понимаю – с негодными средствами, и, можно считать, в главной своей задаче ничего нового не добился. В частности, одна из идей состояла в том, чтобы попытаться реагрегировать два бластомера, один из которых предварительно насыщался метиленовой синью. Я надеялся увидеть, будет ли прокрашиваться второй бластомер. Конечно, все это было спланировано безграмотно, даже когда наблюдалось прокрашивание второй клетки, невозможно было сказать, переходит ли она через специализированные контакты или через внешнюю среду. Это я бы сейчас обрадовался второму варианту, но тогда я, да и никто, о нем и не думал.
Вторая экспедиция получилась тяжелой по многим причинам. Бузников с нами не поехал – в первых числах августа у них родился второй сын – Сашка. Я умудрился простудиться в полете и первые 4 дня во Владивостоке провалялся в гостинице на Второй речке. Поскольку спал все эти дни – не сумел нормально перейти на дальневосточное время и въезжал потом в него две недели. Как началось, так и шло до самого конца. Поселили нас на этот раз на зверобойной шхуне «Ларга» финской постройки – Сова и Витязьское начальство где-то раздобыли 4 старых кораблика, превратило их в блокшивы и стало использовать как плавучие лаборатории и общежития. Я жил в каюте твиндека, в метре от обреза иллюминатора плескалось море. Как-то раз из озорства спросонья просунул ноги в иллюминатор, протиснул плечи и голову, повис на руках и плюхнулся в океан. Поплавал и вылез по трапу, которой с палубы спустили в воду. А несколькими годами позже в той же каюте жил сотрудник нашего института Толя Котомин. К тому времени в корме совские оборудовали сауну, ну и как-то раз, то ли забыли ее выключить, то ли бросили там огонь, но корма загорелась. Когда Толя это понял, все уже было заполнено дымом. Вырваться оттуда было невозможно – тесный коридор делал три поворота под прямым углом – один за другим. Тогда он полез в иллюминатор, но – головой вперед и застрял. Ребята-дальневосточники, в том числе мои приятели Валерка Дикарев и Коля Науменко, подошли к шхуне на лодке, стали заливать каюту, но Толя через пару дней умер от парового ожога 75% поверхности кожи. Сгоревшая шхуна потом долгие годы лежала на борту у самого берега. А тогда, в 75-м, мы наслаждались комфортом, правда, как-то раз пришедши к себе в каюту обнаружил я исчезновение своего шикарного спальника – на свадьбу подарили. Поднял глаза повыше – на верхнюю полку, ба! – вот он спальничек, только в него какая-то посторонняя скотина завернута. Не говоря ни слова, потянул свою собственность, а скотина-узурпатор вцепился и не отдает! Облаял его, а он отвечает: - А что, это твой? Повернулся на другой бок и стал спать дальше. Это оказался некто Голицын, с Ларискиного курса, по кличке «Князь». Если и вправду князь, более или менее ясно, почему монархия рухнула. А еще у Сова появился новый персонаж – Толик Б. Только что демобилизованный из погранвойск после двухгодички выпускник химфака ДВГУ работал на испытательном сроке. Чемпион Владивостока по шахматам, нас с Володькой Болдыревым драл вслепую не дальше 15-го хода, даже когда мы играли консультационную. При этом – ходячая иллюстрация того, что способности к шахматам и науке между собой никак не связаны. Сов попросил Болдырева научить Толика работать на спектрофотометре. Тот добросовестно стал объяснять. Главное, говорит, не делать только одного – нельзя открывать кюветное отделение во время работы... - Ну, понял? - Понял! И открыл кюветное отделение. Обессмертил Толик свое имя в совской лаборатории, однако, не этим. Юра Тутуров, в свое время контузивший Генсеича вопросом, что тот думает об амплификации генов, велел Толику сготовить кофе, потому что пришел к выводу о полной толиковой непригодности ни к чему другому. Б. взял пластмассовую кофеварку, снарядил ее кофе, водрузил на конфорку электрической плиты и включил ее. В какой-то момент Юра углядел этот маразм, в шикарном прыжке перелетел ГДРовскую центрифугу К-24 и сбросил кофеварку с плиты. Только потом выяснилось, что Толик и еще и плиту забыл включить в сеть... А вышиб его Сова совсем после другого эпизода. Пришел очередной тайфун, работать было невозможно, качало океан основательно, а с ним и нашу шхуну. На нее с пирса вел подвесной мостик, который мотался на ветру сильнее, чем все остальное. Добраться в каюту – это был довольно сильный акробатический этюд, но все как-то справлялись. А Толик сплоховал – только вступив на мосток и мотнувшись разок–другой, попросту встал на четвереньки и отправился на шхуну таким порядком. Сов и Тутуров наблюдали за Толиковыми упражнениями со стороны и в один голос высказались в том смысле, что Homo sapiens, а тем более самец, так ходить не может. После прошлогодней экспедиции, когда от голода страдали все, было решено, что питаться будем самостоятельно. Это стало одним из факторов, который сильно осложнил нам жизнь – каждый пятый день дежурство, когда на дежурного падала ответственность и за готовку, и за помывку посуды. День практически выпадал полностью. К тому же, из меня повар известно какой. Мне наши девушки делали реприманды за перерасход растительного масла… Был и еще один осложняющий жизнь фактор. N очень серьезно восприняла свое положение старшего в экспедиции. Попытки навести военную дисциплину были встречены в штыки (мной, в первую очередь), поскольку ГА такого не требовал. Может быть у нее и были основания чего-то требовать, если бы по ходу дела не выяснилось, что феномен «густота-чувствительность» мы с ней понимаем с точностью до наоборот. Это была часть работы, которую, согласно заданию, мы должны были выполнять все вместе. Когда до меня дошло столь кардинальное расхождение в понимании основополагающего феномена, я сначала совершенно офигел и не мог в это поверить. Я просто до того никогда не встречался с ситуацией, когда старший по возрасту и по должности знает что-то профессионально хуже, чем я. Пару дней я этот факт переваривал, а потом, при обсуждении предстоящего опыта, вцепился в нее мертвой хваткой. Остальные меня поддержали по существу дела, но по форме – подозреваю, я успел показать себя во всей красе, а это затруднило дальнейшее существование.
Постепенно как-то оказалось, что все 150 препаратов, которые нам выдали в Купавне на тестирование, чтобы хоть как-то оправдать наше существование, делать надо мне. Решение это было доведено до меня в своеобразной формулировке: – Юра, у вас это получается быстрее, так вы и доделайте. Действительно, выученный Генсеичем, я брал в опыт по 50 веществ в трех концентрациях, и все – от начала подготовки до конца обсчета результатов занимало у меня три часа. Остальные брали в опыт с десяток препаратов... Ну, и фиг с ним! Не очень-то я из-за этого перенапрягся, на готовку пищи времени пропало намного больше. < > В то же время, как и всегда на Витязе, было много всего забавного. Год был совершенно невероятно урожаен на зверей. По ночам по Витязю шлялись толпы оленей, которые свистели по-хулигански и тыкались мордами в палатки. Однажды дамы ушли спать, а я еще оставался – смотреть опыт. Через несколько минут влетают: - Ой, ОН там стоит! – Кто? – Не знаем! Взял фонарь, пошел их провожать – метрах в пятидесяти от лаборатории действительно в луче блеснули вроде здоровенные глаза, но что-то больно здоровенные. Подошел поближе – две консервные банки донышками... В тот год и бурундуков было несметное количество, они выходили нахально на дорогу, которая вела от госпиталя к берегу – что-то лопали с растущих там кусточков. Но самое существенное – это стаи фазанов, буквально запрудивших берега бухты. Идешь, бывало, по дорожке, вдруг из-под ног снимается с треском и улетает, держась прямо над землей. Почему-то ассоциация с тем, как взлетал бы паровоз, если бы это ему взбрело в голову. Птица заповедная, охотиться на нее было запрещено, но двух мы отведали – с одной с очень виноватыми лицами пришли ленинградцы – сказали, что вспугнули фазана, идучи в столовую, а он сдуру врезался в стену дома (ДНС – дом начальствующего состава при флотских и дом научных сотрудников – при штатских) и сломал шею. Потом пришли владивостокские мужики – сказали, что фазан врезался в их мотоцикл. И те, и другие просили помочь с готовкой, потому что кухонное оборудование было только у нас. Что характерно, из трупов обоих этих самоубийц я при потрошении извлекал дробь. К чему бы это? Вкус у фазанов интересный – вроде бы курица курицей, а какая-то горчинка очень приятная. Случился и забавный инцидент с нашими дамами. Пошли они купаться. Купаться им захотелось нагишом, а оттого забрели они в какую-то полную дыру на полуострове Гамова. К обеду явились, я сидел за микроскопом – какие-то опыты просматривал. И тут замечаю – по ним какие-то воши ползают. Получил образец, посмотрел под микроскопом – клещ! А вид – хрен знает, однако ж, как военный паразитолог велел им само- и взаимоосматриваться. Девки перепугались, вынимали клещей у себя отовсюду. Потом оказалось – клещ собачий. Случилась и еще одна неприятность, вполне в стиле прошлого года, но существенно более серьезная. В тот год я много фотографировал, чтобы зафиксировать свечение серотонина при восстановлении ресничек, периодически в совской фотокомнате делал контрольные проявки, чтобы убедиться, что снимки не загублены, и все время какая-то плотная вуаль получалась. Ругался, что вот лежит пленка в лаборатории годами, портится, а потом работа псу под хвост уходит. А потом... В коридоре раздался фирменный визгливый рев. По уровню шума и интонациям я сразу угадал – Сова орет, но в этот раз – с большим накалом и практически не выбирая выражений. Вылетел из комнаты – в реве стали различаться отдельные слова и даже смысл. Да, в этот раз у Славы были полные основания разоряться! Оказалось, что пущинские, которые уехали на второй день после нашего приезда, работали, ни много, ни мало, с меченным натрием, а это вам не тритий – вполне серьезная радиоактивность. Отработанный изотоп они сливали в пластиковую канистру, которую держали на столе в фотокомнате (вот она откуда – вуаль-то!), а, отваливши в родные палестины, так ее и оставили. Теперь Сов поливал все московских и питерских оптом, грозил карами, отлучением и анафемой (коронное – «заколочу сортир, и будете ходить под себя!»). В качестве епитимьи московские (я, то есть, и кто-то еще) были приговорены тащить эту гнусную емкость в могильник и там хоронить. Вообще-то, и это было грубейшим нарушением – в тамошний могильник хоронить натрий было нельзя, но, во-первых, девать эту гадость все равно было некуда, а, во-вторых, Сов и сам не миндальничал и сливал метку прямо под лабораторию, так что в хорошие дни у него рядом с помостом и «море считало». Сколько мы тогда схватили от дорогих коллег рентгенчиков – неведомо. Наши уехали, а я остался еще на пару недель. Возвращаясь, во Владивостоке попался впервые на особенности местного климата – днем ходил по жаре, все с себя снял, а вечером, когда солнце село, холодно стало просто мгновенно. А до меня это доходило полчаса – успел задрогнуть и приехал в Москву весь в соплях. * * * [1] Рассказывают, что на пробивание присвоения имени Кольцова академик Борис Львович Астауров, директор Института, потратил несколько лет и безмерное количество нервной энергии – ни в какую совбюрократия не хотела впускать имя Николая Константиновича в историю нашей биологии [2] Пр-кт 100-л. Вл-ку – так на табличках тамошних автобусов и троллейбусов обозначали проспект 100-летия Владивостоку [3] Тихоокеанский институт биоорганической химии и Институт биологии моря [4] Институт биоорганической химии под руководством акад. Овчинникова, откуда и прозвище
|