| Гостевая | yurishmukler@yahoo.com | Ю. Б. Шмуклер | Галерея | О себе |
|---|---|---|---|---|
| Новости | Летопись текстов | Из дальних странствий | Моя семья и другие звери | |
| Биологическое | ЦСКА | Друзья и родственники | Генеалогия | Бреды и анекдоты |
| Хохмы и афоризмы | В сущности оранжевый... | Стишки и хокку | Долгое падение на камни | Чашечка кофе |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Долгое падение на камниБольшие переменыСледующий, 1976-й, год – это год Женьки. Конечно, в новые времена это смотрится дикостью – научный сотрудник с мизерной зарплатой и студентка выпускного курса решают родить ребенка. У меня еще даже намека не было на задел в кандидатской, которая могла бы по советским стандартам обеспечить пристойное существование. Был, правда, тоже непонятный с современных позиций момент – наличие грудного ребенка освобождало Таньку от принудительного распределения после выпуска. Переносила она беременность тяжко – особенно было страшно, когда у нее случился первый приступ печеночной колики. Дурень со «скорой» сказал, что это аппендицит, повезли в 67-ю, там держали час в приемном покое, потом увели. Я что-то там стал спрашивать, задержался, смотрю – Танька возвращается – ее вместо женской терапии отправили в мужскую невропатологию. Увели снова... Утром примчался в отделение – и ужас! Танька лежит посреди холла на банкетке с полуоторванными ножками. Сказала, что не спала, потому что все время боялась упасть с пузом с этого лежачка. Я ринулся к врачу, которая мне мерзким голосом стала выговаривать, что у меня жена с претензиями. Тут я совершенно озверел и матом объяснил ей, кто она есть и куда и какую бочку я на них покачу. Поняв, что лучше сейчас мне не хамить, эта медуница попритихла, даже удалось выяснить, что аппендицита тут нет, а это – осложненная беременность. Под расписку забрал Таньку домой, и стали мы искать врача, чтобы ее курировать. Так это тянулось положенный срок, Танька при всех этих неприятностях расцвела, как и потом во время второй беременности, такая красавица. Очень ей это шло. Мозгов, правда, не прибавилось. Одиннадцатого августа она поперлась по магазинам, притащила какие-то детские шмотки, а вечером, когда я пришел с работы, сказала, что, вроде, у нее схватки. Я сразу стал считать интервалы и с волнением убедился, что это всего пять минут – то есть дело зашло очень далеко. Схватил Таньку в охапку и потащил на такси – договорено было, что она будет рожать по знакомству на Маломосковской – недалеко от ее института. Доехали быстро – шофер, поняв кого и куда везет, сам нервничал и нажимал – боялся, что Танька родит прямо в салоне. Таньку сразу переодели в казенную рубаху и тапки и увели, сказав, что все правильно – будет рожать. Пока сдавал Таньку, дело подошло к часу ночи – еле успел в метро, и в дороге решил ехать не на Хорошевку, а к родителям – в Бобров переулок, к родителям, куда я успевал без пересадки. Оно и к лучшему – мама была в туристической за бугром, папа тоже где-то отсутствовал, так что квартира было пуста. Выпил немного, кое-как утихомирился и свалился. Утром стал трезвонить в роддом – сказали: - Мальчик. 50 см, 2800. Все время Танькиной беременности на вопросы «кого хотите» сурово отвечал «кто получится», но хотел, конечно, сына. И получил, потому что не жлобничал. Помчался в роддом – вот подлость, четверг, санитарный день – передачи и записки не принимают. Побегал под окнами, поорал «Танька, Танька!» и, не солоно хлебавши, отвалил. Увидел ее в окне только на следующий день. На пятый день Таньку с Женькой выписали. Увидел я своего сыночка – мелкая сосиска с тремя волосинами, аккуратно уложенными по лысому черепу. Но очень Отвезли на Ткацкую, состояние было тяжелое, да еще мы увидели, каких золотушных детей выносят при выписке – мама бросилась давать взятки персоналу, чтобы за ребенком присмотрели. Потом трезвонили в больницу и часов в 11 вечера услышали, что температура упала. Дело оказалось в том, что при родах акушеры проглядели не оторвавшийся кусочек плаценты, который и дал это сумасшедшее воспаление. Вот они – «роды по знакомству»! Врачи говорили, что опасность была серьезной, но все обошлось. От волнений о Таньке, которая на третий день уже стала сама звонить домой, перешли к волнениям за Женьку – он не звонил. Сколько «красненьких»[1] мы пересовали сестричкам – не сосчитать. Думали – поможет. Через две недели их выписали – сразу посмотрели на Женькино личико – вроде чистое. Принесли домой – ужас! Попа совершенно, как у павиана – красная и твердая. «Красненьких» хватило только на то, чтобы ему физиономию протирали. Стали Женьку мыть в череде, смазывать, присыпать. Последняя болячка отвалилась месяца через два, когда я уже вернулся из экспедиции. Да, в экспедицию я таки отправился, хотя и с большим опозданием – только в середине сентября и всего на три недели. И вот тут-то и случился прорыв в работе. * * *
Поехал я переполненный энтузиазмом – и от радости от рождения Женьки, и от того, что все обошлось. Идею новой работы снова предложил ГенСеич – он нашел работу Вакье и Мэзиа, которые добились формирования настоящих двойниковых зародышей морских ежей, внося дитиотреитол во время формирования борозды дробления. А это – принципиально – значит, уже на этой стадии есть какие-то существенные взаимодействия! Раздобыли ДТТ и попробовали сами – получилось. Но получилось и с нашими веществами! Антагонисты серотонина тоже вызывали нарушения межклеточных взаимодействий – были там и 8-образные зародыши, и просто половинные, и половинные, но сросшиеся, и уж совершеннейшая дикость – полубластулы – не шарик, как обычно, а полусфера, как левая или правая «половина цыпленка». Оказалось также, что тот морской еж, на котором мы работали обычно, для таких опытов не годится, а годится плоский еж Scaphechinus mirabilis, в переводе – лодка-еж удивительный. Штука, действительно, удивительная. На ежа, в отличие от наших прежних объектов, совершенно не похож. Плоская округлая, но имеющая все же несколько пятиугольную форму каменистая буро-фиолетовая штуковина, покрытая мелкими, в миллиметр, щетинками, символизирующими собой иголки. Икры дает совсем немного – несколько кубиков – максимум. Икра очень красивого красно-фиолетового цвета из-за пигментных гранул, сидящих на очень толстой желатинозной оболочке и очень хорошо видных в микроскоп. Времени в этот раз было мало, поставил себе раскладушку прямо в комнате, где работал, и только укладывался глубоко ночью перехватить несколько часиков. Периодически просыпался, чтобы просмотреть результаты опытов – я еще продолжал параллельно затею с соединением крашенного и некрашенного бластомеров, но толкового из нее ничего не вышло, а, как потом стало ясно, и выйти не могло. Но и этого я не знал, потому что этого заранее не знать не мог никто. А Танька писала, как растет Женька. Ест, пищит, растет. А потом написала, что он в первый раз улыбнулся осознанно. Вот так я пропустил первый в его развитии ключевой момент. На следующий год он в мое отсутствие сам пошел, а еще через год Танька написала, что Жек складно заговорил. И всякий раз это происходило в мое отсутствие, и только относительная успешность тех сезонов немного подслащивает горечь. Надо было бы быть рядом с сыном, а не мотаться за семь тысяч километров. Но по иному у меня получиться не могло. Все детерминировано – даже срок Женькиного, а потом и Машкиного рождения. Оба они родились в начале августа – 12-го и 9-го, и это, всего лишь, значит, что у их папы полевой сезон кончался все эти годы приблизительно в одно и то же время. Соответственно, и процессы взросления… Впрочем, та экспедиция была короткой. Вернулся я в начале октября и еще очень основательно успел поучаствовать и в пеленании, и в кормлении, и в стирке. И впервые за время работы у Бузникова у меня возникло ощущение, что что-то сдвинулось, что есть, за что зацепиться. По тем результатам мы написали статью, я добросовестно описал все сделанное, введение было в значительной степени написано Генсеичем, а обсуждение писали вместе. Это вообще была моя первая серьезная публикация в этой области. Кстати, еще когда я притащил ему рукопись тезисов, написанных для Коштоянцевской конференции 75-го года, он, брезгливо поглядев на мои каракули, сказал что-то вроде: - Юра, чем я буду учиться читать ваш анафемский почерк, научитесь-ка лучше на машинке печатать. Этот совет имел многообразные и отдаленные последствия в моей жизни. Я действительно научился печатать довольно ловко восьмью пальцами. Конечно, все последующие публикации я уже готовил на машинке, а потом это стало и источником приработка. Кто-то из знакомых порекомендовал меня во Всесоюзный Центр Переводов, очень серьезную организацию, делавшую переводы по заказам организаций. Помимо качества перевода, там требовалось тщательнейшее оформление в соответствии с ГОСТом. Мы с Танькой тогда на всю жизнь запомнили, сколько должно быть знаков в строке и сколько строк на странице. По тем временам, между прочим, неплохо платили – 60 рублей за авторский лист. Беда только в том была, что заказы были крайне нерегулярны, а когда наша благодетельница из ВЦП ушла, ручеек и вовсе пересох. Тем не менее, мы успели там подзаработать не только на текущие дела, но и на поездку в Прагу, о которой позже, и даже на кусочек «жигуленка», который покупала наша большая семья. Потом умение печатать на машинке пригодилось и, когда появились компьютеры. * * * Следующий сезон (77-го года) стал необычным. Оказалось, что на Витязь собирается Левон Чайлахян и его компания. Научная затея, бог знает откуда у него взявшаяся, состояла в том, чтобы посмотреть, будет ли зародыш считать у себя «в уме» деления, если изолировать бластомеры, а смотреть он это хотел по формированию микромеров на 4-м делении. Микромеры резко меньше по размерам и довольно легко различимы. Он рассчитывал, что это может быть надежным репером. Надо признать, ни он, ни я литературу до экспедиции не поднимали, это только потом я полез в первоисточники. А тогда все казалось просто – если микромеры будут формироваться после изоляции, значит – межклеточные связи несущественны, а если не будут, значит – для их формирования клеточные взаимодействия важны. Меня-то сначала завлекала возможность поучаствовать в другой части работы, которую планировал Левон – они везли с собой микроманипуляторы и еще кое-какое оборудование и собирались делать микроинъекцию цианола – краски, переход которой в другую клетку рассчитывали углядеть. Отправка в экспедицию сопровождалась необычными для меня мерами – мы-то просто списывались с ребятами да и ехали, а Левон, его лаборантка Таня Харитон и ее муж Юра Семенов, подошел к делу серьезнее. Эта троица грохнула в ДВНЦ[2] телеграммку: «Вылетаем такого-то, рейс такой-то. Просим встретить. Чайлахян, Харитон, Семенов». В ДВНЦ это было воспринято в соответствии с текстом – «к нам едет ревизор»! «Письмо трех академиков» рассматривалось на уровне руководства, и были приняты соответствующие меры. Какой пассаж случился, когда до местных дошло, что это не академик-физиолог растений Михаил Христофорович Чайлахян, отец атомной бомбы академик Юлий Борисович Харитон и академик Нобелевский лауреат Николай Николаевич Семенов к ним приехали, а всего лишь их дети! Уровень приема немедленно снизили, но номера в гостинице «Владивосток» перебронировать не успели, поэтому в первый и единственный раз я отведал (за компанию) владивостокского гостиничного шика. Это, конечно, не Рио-де-Жанейро, но по сравнению с обычной нашей общагой на Второй Речке – по крайней мере, Сан-Пауло. Принимал нас уже не президент ДВНЦ, а всего лишь зам. Директора института автоматики и проблем управления Марголин. Сам он мне не запомнился, потому что был весь занят беседой с высокими гостями, а мы с Андрюшей Карповичем тем временем уделили внимание столу. Жена Марголина, надо отдать ей должное, была великой мастерицей. Жюльен из трепанга, который мы с Андрюшей скорее не углядели, а унюхали, был выше всяких похвал. И пока высокие персоны вели политичные разговоры, мы сожрали его под корень. Когда и у них дошла очередь до вкушения яств, возникла некоторая неловкость, но мы с Андрюшей уже сыто отдувались, не испытывая особых угрызений совести. На шикарном ужине, испорченном нашей с Андрюшей прожорливостью, государственные почести закончились, и мы отбыли на «Витязь» на общих основаниях – на «Аркадии Гайдаре». Некоторое время устраивались, потом начали работу. Стиль работы у команды Чайлахяна был диаметрально противоположен нашему. Мы ехали в экспедицию, как в бой – короткий, но решительный. «День год кормит», «ни шагу назад» и т.д. А у них была в Москве несезонная стабильная работа, Витязь же – это так, каприз художника, нехилый выезд на далекое море за государственный счет. Сам Левон, правда, работал с интересом, придумывал всякие варианты, но разумно сочетал все это с расслаблением по полной программе, а, когда я норовил отлынивать от всяких морских прогулок с поддавоном, смотрел на меня то ли, как на дурака, то ли на ханжу, который прикидывается, что весь в науке. Я про себя быстро решил – у этого взрослого дяденьки его собственная жизнь – он уже доктор, а у меня – своя, и я еще и не кандидат, и на провокации не поддавался. Почти… Как всегда в стоящей затее, сначала все шло через пень-колоду, главное – четко предначертанная бластомерам программа поведения пошла псу под хвост после первых же двух опытов, потому что в одном опыте микромеры на половинном зародыше, изолированном с помощью встряхивания суспензии зародышей, образовались, а во втором – нет. Вот же еще фарт – когда мы приехали, у серого ежа, самого массового на Витязе, и плоского, на котором я работал в прошлом году, еще не начался сезон размножения. Про плоского я это знал заранее, а серый должен был уже работать, но в тот год подзадержался. А ведь если бы мы начали работать на нем, скорее всего, бросили бы эту затею – как потом выяснилось, именно на этом виде изоляция бластомеров в подавляющем большинстве случаев на типе дробления не сказывается. А вот на черном еже – на S. nudus – все эти феномены – то формируется, то не формируется – оказались выражены в наилучшем виде. Правда, зародыши надо было обрабатывать бескальциевой водой, а потом встряхивать, но и так мы набрали несколько десятков изолированных бластомеров, у которых типы дробления распадались практически пополам. Вот тогда и стали размышлять, от чего сие может быть? Как-то сама собой возникла довольно естественная идея, которая, в частности базировалась и на данных Вакье и Мэзия, и уже и на моих – что во время деления есть критический период, определяющий последствия воздействия. Тогда мы стали пробовать изолировать бластомеры до и после адгезии. Изолировали опять-таки встряхиванием, но точно датировать момент не могли – в популяции всегда есть некоторая несинхронность. Однако ж, как-то сразу стало получаться, что при изоляции пораньше – микромеров поменьше, а попозже – побольше. Вроде гипотеза подтверждалась.
Про первые результаты я написал Бузникову. В основном занимался изоляцией, но иногда и ставил опыты в стиле прошлого года, набирая статистику. И тут мне пришло мне от Генсеича письмо, где-то оно у меня хранится. Писал он, что-де, Юра, все это очень забавно, но у вас же стало получаться, надо гнать опыты, набирать побольше препаратов, смотреть фармакологическую специфику, обратить внимание на разницу эффектов препаратов проникающих в клетку и не проникающих. А все эти забавы с микромерами – игрушка Чайлахяна, у которого никаких серьезных интересов здесь нет, просто развлекается… У меня такая мыслишка тоже бродила – особенно пока ясного результата изоляции не наблюдалось. Даже когда результат стал наблюдаться, абсолютно никакой прямой связи с моей темой еще не просматривалось. Мысль о том, что надо на изолированные клетки полить серотонином или его антагонистами, крутилась, но было не совсем понятно – на что лить серотонин, а на что – антагонисты. Вроде логично, что серотонин должен имитировать межклеточный сигнал, а антагонисты – снимать его. Значит, серотонин надо лить на изолированные раньше, где обмен межклеточными сигналами еще не прошел. Но изолированных бластомеров было мало, Левон продолжал считать различие типов дробления на разных видах, подошли серый и плоский ежи, и тут-то и выяснилось, что на плоском все получается, как на черном, а на сером – полное однообразие. Вот ведь, как случайность легла, могли и пролететь!
Мне, видно, какого-то толчка не хватало – полил. И получилось, что политый серотонином бластомер сформировал-таки микромеры. Времени оставались считанные дни, а выход опытов был просто мизерный – я тряс суспензию, потом находил оторвавшийся бластомер, ставил в центр поля зрения и ждал четвертого деления – это около трех часов. Довольно быстро я понял, что так я много не наработаю. Надо было что-то делать… К тому времени у меня сложились весьма теплые отношения с хозяином лаборатории, в которой мы в тот год работали, хотя поначалу, вроде, ничто этого не предвещало. Чайлахянов было много, в работе все были замкнуты друг на друга, так что настоящие отношения с местными стали складываться, когда иппишники отвалили. Правда, еще до того я некоторое уважение у хозяев снискал. Дело в том, что у тамошнего завлаба – Сергея Шуколюкова был здоровенный пес – черный терьер Босс. Собак жил в лаборатории и стерег ее с большой свирепостью. Огромная такая тварь, гавкает, бросается, морда вся в слюнях – многие предпочитали заходить в лабу через окно. А меня что-то уперло, вот еще унижаться! Пошел я на этого гавкающего Цербера, а когда он кинулся – сунул ему в пасть руку. Может быть и глупо… Но Босс от такой наглости и пренебрежения обалдел, руку в пасти подержал, выплюнул и … стих. А после этого вообще перестал при моем появлении голос подавать и даже подходил, подставляя свою лохматую башку, что погладили. Потом я и с людьми подружился. Отчасти, отношение ко мне изменилось именно, когда я не испугался этого пугала кудлатого. Что-то такое они потом мне говорили. А спустя некоторое время, когда Сергею понадобилось во Владивосток, он оставил заботы по выгулу Босса на меня. Это запомнилось хорошо. Босс сразу затосковал – такой здоровенный пес, а плакал, как маленький. Приходилось его между опытами гладить. А вечером животное надо было прогулять. Подцепил я поводок и пошли мы на пленер. Этот организм, почуяв свежий воздух, натянул поводок и попер, как паровоз по сопкам, через кусты. Я болтался на конце шнура, как тряпочка, и вернулся в лабу после 10-ти минутной прогулки весь в мыле. Ну, раз отношения хорошие, я снахальничал и выпросил у Сергея все свободные микроскопы, числом 5, выставил их в ряд и стал ставить пять опытов с 1 – 2 бластомерами за раз. Типичный экстенсивный подход – довольно глупо, особенно с учетом того, что в следующем году я за опыт нарезал 100 -120 бластомеров за опыт, но тогда я гнался за принципиальным результатом. Последние несколько суток гнал нон-стоп и набрал-таки кое-какую статистику, которая позволяла утверждать, что серотонин имеет достоверный эффект, имитирующий межбластомерный сигнал. Сезон кончился, мы возвращались во Владивосток с Сергеем, а там уже месяц царила засуха. Вот тоже – кому война, кому мать родна. Владик задыхался от жары и безводья – в том году не было ни одного тайфуна, а у нас по той же причине сезон шел, как по маслу – не было потеряно ни одного дня, а воды на Витязе всегда невпроворот. А Владик встретил нас траншеями военно-полевых сортиров, куда ходило все население, бесконечными очередями к колонкам, ограничениями подачи электроэнергии[4] и первой полосой местного «Красного знамени», целиком занятой постановлениями крайкома, крайисполкома и прочих о мерах по спасению: жесткое нормирование воды, перевод предприятий на техническую артезианскую воду, срочное строительство методом народной стройки (читай – массовой мобилизации на трудфронт) Шкотовского водохранилища и пр. Я к тому времени уже знал печальную историю Владивостокского водоснабжения. Засухи случались и раньше (и позже) с периодичностью примерно в 10 лет. После засухи 67-го Сова за стишки в стенгазете биофака ДВГУ «…воды под нами океан – о чем же думает султан?» едва не вылетел из универа. Тогда, не в связи с творчеством Совы, было принято решение на строительство Лякшинского водохранилища в пару к маловодному Седанкинскому. Времена были строгие – водозабор из рек, берущих начало в Китае, запрещался. А «чисто русских» речек там – раз-два и обчелся. Строили они строили, но, когда пришла засуха следующая, оказалось, что где-то на пути водовода есть трещина, и вода уходит под землю. Оказалось, что это еще к счастью – потом выяснили, что одна из лощинок, по которой должна была идти вода – это место сибироязвенного могильника. В 49-м во время эпизоотии туда согнали зараженный скот и перебили там из пулеметов. Хорошо, что вода туда не дошла – сибязва хранится в могильниках лет 200. С тех пор ничего не изменилось – разве что деньги на строительство разворовали на корню и ничего строить и не пытались. А в тот раз мы с Сергеем раза три сбегали к колонке с ведрами, залили ванну и обеспечили его семейство на несколько дней. Выпили яичного коктейля, и полетел я домой. * * * [1] Советская купюра достоинством в 10 рублей была красного цвета [2] Дальневосточный научный центр АН СССР, впоследствии – ДВО (отделение) АН СССР, позже – ДВО РАН [3] Институт эволюционной физиологии и биохимии им. Сеченова [4] АртемГРЭС брала воду их все того же Седанкинского водохранилища, из которого пил весь город
|
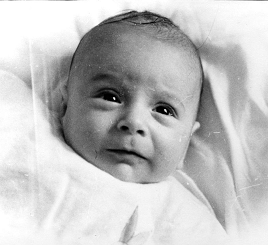 симпатичный. Только вот что-то Таньку познабливало, решили – от усталости, но к вечеру температура выросла до 37,5, утром лучше не стало, в середине дня – уже 38,5. Вызвали скорую, фельдшера в машине не было, носилок – тоже. Взял Таньку на руки и снес ее со второго этажа, кто-то из бабок нес Женьку, который еще и Женькой-то не был – как назвать окончательно решили уже в карете.
симпатичный. Только вот что-то Таньку познабливало, решили – от усталости, но к вечеру температура выросла до 37,5, утром лучше не стало, в середине дня – уже 38,5. Вызвали скорую, фельдшера в машине не было, носилок – тоже. Взял Таньку на руки и снес ее со второго этажа, кто-то из бабок нес Женьку, который еще и Женькой-то не был – как назвать окончательно решили уже в карете.

 Потом чайлахяны уехали, а я, как всегда, остался в одиночестве. Его основательно скрашивал Левка Протас – физиолог из питерского ИЭФа
Потом чайлахяны уехали, а я, как всегда, остался в одиночестве. Его основательно скрашивал Левка Протас – физиолог из питерского ИЭФа А тогда, когда мы с Левкой там обитали, дом Янковского потихоньку разрушался. Во всяком случае, стекла в нашем окне косопотолочной комнаты под крышей не было. Это было хорошо, потому что на свежем воздухе я быстро высыпался, а раненько по утру просыпался от холода. И вот как-то раз мы с Львом обсуждали текущие дела, я стал мямлить что-то про то, что надо…, а он и говорит, кончай качаться – давай, поливай!
А тогда, когда мы с Левкой там обитали, дом Янковского потихоньку разрушался. Во всяком случае, стекла в нашем окне косопотолочной комнаты под крышей не было. Это было хорошо, потому что на свежем воздухе я быстро высыпался, а раненько по утру просыпался от холода. И вот как-то раз мы с Львом обсуждали текущие дела, я стал мямлить что-то про то, что надо…, а он и говорит, кончай качаться – давай, поливай!