| Гостевая | yurishmukler@yahoo.com | Ю. Б. Шмуклер | Галерея | О себе |
|---|---|---|---|---|
| Новости | Летопись текстов | Из дальних странствий | Моя семья и другие звери | |
| Биологическое | ЦСКА | Друзья и родственники | Генеалогия | Бреды и анекдоты |
| Мы идём на ЦДСА | Архив публикаций | Избранное на Red Army.ru | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Еще одна маленькая интермедия: КанадаВот вечно у нас так – сначала отмахиваемся, как черт от ладана, аргументы приводим, почему нам этого не надо, встаем в позу, а потом все равно делаем, но уже упустив время, отставая. Много лет в Европе разыгрывались клубные кубки по футболу, но мы гордо их игнорировали, оставаясь в приятной, но ничего не дающей и не значащей позиции «чемпионов по товарищеским матчам». То ли лень было, то ли деньги на евровыезды государство жлобило, то ли боялись позорных провалов, но в результате отстали в наборе опыта, которого после много раз не хватало. Потом ведь все равно стали играть, оказалось, что все прежние аргументы – фигня, но дошло это до властей предержащих с характерной для жирафа задержкой. Как наши боролись против участия профессионалов в хоккейных чемпионатах! Пеной исходили – чуждые гуманизму нравы, то-се, а на самом деле просто боялись за сложившуюся в мировом хоккее нашу гегемонию. Была, была к тому причина – в ходе одного из турне по Канаде играла сборная с молодежкой «Монреаля», а в ворота к ним добавили натурального Жака Планта[1]. Наши гвардейцы, загипнотизированные именем, бились весь матч лбом об стену и получили 1:6. Потом рассказывали, что чувствовали полное бессилие. Так что, подозреваю, Тарасов от перспективы встречи с профи испытывал смешанные чувства. Он себя не без оснований считал великим, а такие встречи могли это либо с блеском это подтвердить, либо обрушить пьедестал. Чем старше человек, тем труднее ему идти на такой риск. «Гденадо» результаты эксперимента тоже учли и сделали далеко идущие выводы. Когда канадцы стали добиваться включения профи в сборную на чемпионаты мира, наши отчаянно сражались, поднимали мировое общественное мнение на борьбу за чистоту любительского спорта. Ага! У нас были, конечно, сплошные любители, специально сняли сюжет для киножурнала «Советская Армия» - как бравые офицеры Рагулин, Кузькин и Брежнев[2] стреляют по мишеням и водят БТР. Когда канадцы на венский чемпионат заявили двух списанных профессионалов, наши сопротивлялись до последнего, как девица, которая вот-вот попадет в беду. Помнится, Старовойтов[3] писал, что вся первая серия игр с профессионалами случилась по недоразумению – наши подписались на «игры с участием профессионалов» и собирались собачиться за число включаемых в команду профи. А канадцы просто оттрактовали формулировку расширительно и включили исключительно профессионалов, а нашим сказали «слабо!». Оказалось, что отступать некуда, и это получилось к лучшему. А ведь сначала никто и не сомневался, что раздавят нас в тонкий блин. Я относился к категории безудержных оптимистов, которые, ожидая, что сейчас начнут закидывать нехорошими тряпками, тихо мямлили, что уж очко-то мы, может, зацепим… Показывали в записи – сама игра шла по Москве глубокой ночью, а советским людям рано на работу, но шифровали результат, все молчали, как партизаны, однако какая-то легкая улыбочка трогала губы дикторов, которые призывали вечером смотреть матч. А часов с 10 утра поползли слухи о каком-то феерическом результате, вроде 7:2 или 7:3 в нашу пользу. Я поначалу заподозрил, что кто-то перепутал и принял за результат ссылку на историю – первый матч с канадцами в 54-м. А потом позвонил приятель и сказал, что все западное радио заходится от визга, что действительно погром, в Канаде национальный траур, массовые самоубийства, и несколько сотен спортивных деятелей публично подавились при поедании газет, в которых были напечатаны их прогнозы о разгроме советских исключительно с двухзначным счетом. За целый день официально так никто и не протрепался, и за телевизор мы засели со смешанным чувством – хотелось верить слухам, но больно уж они невероятными казались. А когда начался матч, у меня просто возникла уверенность, что все это – треп. Никогда больше я не видел у наших такого откровенного испуга, очевидного трясения конечностей, полного непонимания, что делать и что делается кругом. В первые же минуты канадцы отгрузили две шайбы, как маленьким, почти без сопротивления, при том что на площадке были наши лучшие. Третьяк, по-моему, даже не видел, как влетала вторая. Так шло и дальше, и единственное, что меня успокаивало, это то, что нам пока не забили больше того количества, о котором шли разговоры – трех штук. Канадцы катались, наши бросались на шайбу очертя голову, никакой игры, робкие попытки комбинировать срывались на втором пасе. Мастер-класс для начинающих. А потом Зимин забросил. Во-первых, вообще восторг, хоть он и спартаковский. Во-вторых, возродилась надежда, что слухи про нашу викторию не были пустым трепом. В-третьих, лица канадцев – это была презанятнейшая гамма чувств: как это? Кто упустил этого? Ну, блин, мы вам покажем! Озверели, полезли ставить нас на место, а вот тут у нас, наконец, получилась комбинация, Валера ушел финтом от защитника и забил. По-моему, это был именно тот момент, когда канадцы в том матче сломались – из всей гаммы осталось только одно: как это? Нельзя сказать, что они остановились, они боролись, пихались, цеплялись, но из них вышел воздух вместе с гонором шляхетским. Следующие матчи и общий итог для меня уже были непринципиальны. Канадцы в Москве показали, что они действительно профессионалы и способны на сверхусилие именно в нужный момент, а мы показали, что они не инопланетяне. Это было великое открытие, без всякой иронии. Но был и еще один момент, который я тогда запомнил и до сих пор считаю нашей ошибкой. Начиная с третьего матча, канадцы организовали целенаправленную охоту. Во вкусе и точности оценки им не откажешь – они стали убивать Харламова. Мы к такому устремлению были не готовы, не имели опыта охраны лидеров, были скованы всякой пседодипломатией и вместо того, чтобы приказать Саше Рагулину вбить тафгая в лед по плечи, беспомощно смотрели, как калечат нашего лидера. В Москве Харламов практически уже не играл, а только обозначал свое присутствие, которое тоже приводило канадцев в нервическое состояние. То, что это не было случайностью, подтвердилось во время турне ЦСКА, когда мы размазали Нью-Йорк, сыграли бессмертную ничью с Монреалем, приложили кого-то еще, а в конце вышли на бандитские хари из Филадельфии. Кларк, подлец, ни о чем на поле не думал, ни в какой хоккей не играл, он калечил Валеру, бил сзади, бросал на борт. А наши смотрели, Женя Мишаков только полез в драку, а надо было спустить всех собак, пойти на любые потери, но Кларка навсегда оставить на филадельфийском льду. Максимум на что решились наши – это временный увод команды с поля, да еще с ублюдочной формулировкой, что нам надо играть чемпионат мира, и мы не желаем терять игроков. Сколько лет прошло, а вспоминаю об этой подлости Кларка и нашей трусости – и трясет всего. Кларк вошел-таки в историю – со славой Герострата. И как только наши ветераны ему руку подают? Интересно, от кого канадцы пришли в наибольший восторг, всегда потом к себе зазывали и отмечали. От Третьяка они сначала просто пришли в умиление – такой молоденький, так его жалко, наши его стопчут. Говорят, Плант зашел к нему в раздевалку и как-то сориентировал насчет самых опасных канадских форвардов, думал – будет разгром, пожалел мальчишечку. А Вадик, очнувшись от нокдауна в первом матче, стал показывать такой класс, что вся Канада оторопела. Отчего-то у них было такое суеверие, что настоящие вратари рождаются только в Канаде, а тут такое! В Якушеве они тоже узрели нечто свое в советском исполнении – вроде русский Ришар, вроде на Маховлича похож. Они в Саше увидели собственное зеркальное отражение, но вот только из сибирской тайги… А вот Валеру Харламова они признали уникальным. Признали, что у них ничего такого нет, ничего подобного не видели и готовы даже терпеть неприятности за удовольствие видеть такого чужого гения их игры. * * * Тарасов еще успел начать обкатывать новую волну – тройку из молодежки Гостюжев – Жлуктов – Меликов. Меликова быстро ушли в «Динамо», Гостюжев, очень сообразительный и техничный, нравился мне, тоже не удержался. А Витя Жлуктов остался надолго. Тарасову наследовал Костя Локтев, при котором команда играла отлично, взяла чемпионство. Просто он позволял творить мастерам, вовремя внося тактические поправки по ходу игры. Не знаю, как сложилось бы у него дальше, но то, что век тройки Петрова продлился бы – не сомневаюсь. А Костю сняли – единственный до той поры случай на моей памяти, когда убрали тренера-победителя. Видно кому-то хотелось, чтобы принявший сборную Тихонов был привычно под рукой и правил базовым клубом. Локтев проявил высшую степень порядочности, не сказал ни одного худого слова в адрес родного клуба и до конца жизни отказывался работать с советскими командами, предпочитая слабосильных армейцев, но зарубежных. Тихонов привнес нам разработанную им в Риге систему игры в четыре полных звена. Насколько я помню, у наших грандов эта затея встретила неприятие, поскольку резко сокращала их игровое время. Это в Риге с игроками относительно равного и относительно среднего уровня прошло «на ура», а в ЦСКА надо было считаться с наличием лучшей тройки всех времен и народов. Отношения натянулись сразу, к тому же за Петровым, правдоискателем и говоруном, как говорится, не заржавело. За Тихоновым на веревке притащили Балдериса, а из «Крылышек» умыкнули Сергея Капустина. Оба идти к нам не хотели, не трудились этого скрывать и пытались по-настоящему выкладываться только за сборную. Этот номер, однако, не прошел – когда не привык напрягаться, по заказу не получается. За них отрабатывал Жлуктов, на котором все и держалось, а Витя в таких суровых условиях сильно вырос. Так или иначе, но концентрация высококлассных игроков у нас увеличилась, так что «ложка стояла». Грандов Тихонов уничтожил, варяги из ЦСКА слиняли, как только появилась возможность, и, убедившись в провале первого опыта, Виктор Васильич принялся строить свою новую тройку-мечту. Процесс оказался мучительным – не могу вспомнить, чтобы нашу первую тройку собирали так долго и пробовали столько народу. Первым появился Володя Крутов – его в конце сезона, как обычно у нас бывало с молодыми, подпустили в основу под 25-м номером. В те времена, когда номера у хоккеистов шли почти подряд, это означало – «за составом». Володя, однако, вышел с Михайловым и Петровым с таким видом, как будто это для него обычное дело, и начал крутить соперников, как маленьких, со своим необыкновенно серьезным и каким-то немного недовольным выражением лица. Я это выражение очень ценил, когда Володя забивал и всем своим видом показывал, что ничего сверхъестественного не сделал, что вы, дескать, так удивляетесь, я вам и еще забью. Забил, между прочим, и в первом матче, показав такую технику и такую физическую мощь, что ни у кого не возникло сомнений – это наше светлое, как всегда, будущее. Практически одновременно в Челябинске засветился Сергей Макаров – с прекрасной головой и техникой, мгновенно ставший там лидером. Через год он уже был у нас и чуть ли не сразу в одном звене с Крутовым. А вот центр к этим двум краям никак не подбирался. Довольно долго пробовали с ними Николая Дроздецкого, прекрасного края, родом из Колпина, но игра распадалась на индивидуальные эпизоды, где каждый мог показать экстра-класс. Тройка и так могла переиграть кого угодно, но надо отдать должное Тихонову, он чувствовал, что «золотое сечение» не найдено, и стал ставить в центр Жлуктова, оставшегося без партнеров. Игра, вроде, смотрелась, но, в конце концов, Тихонов притащил из «Химика» Игоря Ларионова. Признаюсь, прозорливость Виктора Васильевича в данном случае не оценил. Ларионова считал чересчур мягким и легким, был он, объективно, малорезультативен да к тому же всем своим видом показывал, какое большое одолжение он нам делает своим переходом. Черт подери, может и так! Просто человек обладал достаточно высокой самооценкой и, действительно, был уверен в себе. Недаром он быстрее, лучше и прочнее всех из того поколения адаптировался в НХЛ. Первые опыты с Ларионовым в центре первой тройки особо не убеждали, но Тихонов, видно, почувствовал, что нашел искомое, и проявил настойчивость. Ребята стали находить взаимопонимание, прибавлять в мощи – система накачки физики у Тихонова тарасовской не уступала, и к концу года последний шедевр армейского и советского хоккея заблистал. Была у нас еще одна очень классная тройка: Хомутов – Быков – Каменский, но, на мой вкус, до уровня КЛМ не дотянувшая. Закладывалась и новая супертройка: Могильный – Федоров – Буре, но «распалась связь времен…» Все эти годы с не более, чем годовыми перерывами, мы царили в хоккее и не просто побеждали, а именно демонстрировали высший класс. Конечно, невозможно это доказать, но и переубедить меня никто не сможет – тот уровень владения игрой, уровень артистизма и мастерства, который показывали Михайлов, Петров и Харламов, а позже Макаров, Ларионов и Крутов, и сейчас выглядит заоблачным, и ничего подобного даже лучшие из профессионалов нынче показать не в состоянии. О причинах этого я немного скажу в главе «Эпитафия советскому спорту». Здесь шла речь, в основном, о нападающих – я старался провести непрерывную линию уровня нашего хоккея. О защитниках и вратарях скажу только, что они всегда были подстать атаке, а кое о ком я еще напишу. * * * Хоккеем зимнее счастье коня не ограничивалось. Немало удовольствия доставляли баскет и волейбол. В годы моего детства наши «большие» складывались в жестокой борьбе с рижскими «одноклубниками». Кавычки в данном случае указывают на тот факт, что хитромудрые латыши таким манером предотвращали неминуемый призыв и умыкание своих лучших игроков. Конкурентами тогда командовал… ну, конечно «папа» Александр Яковлевич Гомельский. Состав он подобрал по тем временам просто блестящий. Высоченный (он и теперь таким бы считался) центр Янис Круминьш (218), техничнейший форвард Майгонис Валдманис, защитники братья Валдис и Гунарс Муйжниексы, Алвил Гулбис. Играли красиво, и бороться с ними было невероятно трудно. Круминьш – тяжелый, с огромным носом, могучей нижней челюстью – следами явной акромегалии[4], тем не менее, довольно резво поспевал от щита к щиту, где бороться с ним тогда было особо и некому. Гулбис и Валдманис прекрасно водились и обладали отличным броском. У нас тогда собралась тоже довольно мастеровитая компания. Такого выдающегося по физическим данным, как Круминьш, центрового у нас не было, но Виктор Зубков со своими 207 см смотрелся красиво, а в атаке радовал поразительной красоты бросками крюком. В атаке играли толковые форварды Бочкарев и Семенов, который еще и диспетчером был. Александр Травин, еще один крайний, обладал поставленным броском из угла площадки – это была его точка, и бил он оттуда безотказно. Если бы тогда действовала 6-метровая дуга, все травинские достижения можно было бы спокойно увеличить в полтора раза. Росту он был по тем временам хорошего для нападающего – 190. Еще бы, совсем незадолго до того такой рост был у центрового сборной Отара Коркия. Есть очень смешная кинохроника про сборную СССР, в которой ни один игрок не достает Коркия до плеча. В защите у нас играл Арменак Алачачян, ростом всего 174, скоростной, техничный с прекрасным видением площадки и пасом. Как-то он умудрялся совмещать диспетчерские функции со снайперскими, атакуя сплошь и рядом издалека совершенно не встречающимся теперь способом – «из-под юбки». Мяч, который он держал двумя руками, начинал движение из-под колен. Как он и бросавший так же штрафные Круминьш целились, я не понимаю, но попадали исправно. Потом у нас появился Геннадий Вольнов, ставший эпохой в армейском баскете. Со своими двумя метрами он справлялся с функциями центрового, а когда появлялся кто-то подлиннее, переходил на позицию нападающего. Он к тому же производил впечатление интеллигентного человека, всегда был отменно выдержан и воспитан. Несколько позже из «Динамо» взяли защитника Юрия Селихова, из Тбилиси – форварда Юрия Корнеева, а из Риги – центрового Яака Липсо, эстонца, единственного из рижан, кто согласился к нам перейти. Вот эти парни и стали основой нового ЦСКА, который оказался вне конкуренции в Союзе и вышел на большую европейскую дорогу, где драл всех направо и налево. И оказался в финале Кубка чемпионов носом к носу с мадридским «Реалом». Тогда, говоря о королевском клубе, знатоки поднимали палец (не средний): - О, «Реал»! Брабендер! Сайнс! Да, там играли двое натурализованных американцев, и самый этот факт производил гипнотизирующее действие. Потом нечто подобное я наблюдал, когда канадцы впервые включили в состав хоккейной сборной экс-профессионалов Боунэса и Брюера (у нас писали – Карл Бревер). Действительно, поджилки у наших явно дрожали, пока Боунэс не лопухнулся со знаменитым суперпарашютом Фирсова, который швырнул резинку, только чтобы смениться спокойно. А Брюеру Полупанов так оформил глазик, что верхнее веко пришлось приклеить ко лбу тремя ленточками пластыря. Да, так вот, мы и «Реал» приложили, правда, несколько смухлевав. Все у нас было в полном порядке, кроме роста центрового. Видимо не очень долго думая, Александра Петрова призаняли у динамиков. Петров, как раз росту был хорошего - 215, был тогда основным центровым сборной, но за нас в чемпионате страны так ни разу и не сыграл. Как уж там вкрутили заявку европейской федерации – не ведаю, но факт налицо. Выиграли! Можно считать, что это был такой «легионер», чем это хуже нанятых американцев? Череда наших самых разнообразных (с другой стороны – однообразных) побед, в числе которых участие наших в исторической мюнхенской победе на Олимпиаде, где решающий пас через всю площадку дал наш Иван Едешко, продолжалась. И при Сергее Белове, и при Стасе Еремине мы были безоговорочно лучшими в стране, пока на горизонте не появились «братья из Зеленого леса»[5]. В Каунасе под самый конец эпохи лучшего в мире балета, покоряющего космическое пространство, сложился уникальный состав во главе с супер-уникальным Арвидасом Сабонисом. Рядом с ним играли выдающиеся игроки – Вальдемарас Хомичюс, Сергеюс Йовайша, Римантас Куртинайтис, подпираемые кучей перспективных и техничных молодых. Достаточно вспомнить Эйникиса, который потом долго был вне конкуренции в чемпионате России. Тем больше подвиг наших, когда после временного отступления они все же сумели такого противника одолеть. Нынешний БК ЦСКА мало чем напоминает прежних армейских баскетболеров, но в любом случае не позорит бренд. Да и вообще, именно БК оказался из всех наследников большого ЦСКА наиболее адаптированным к новым условиям существования, наиболее динамичным и, в конце концов, успешным. А то, какая способная молодежь подрастает, дает надежду, что в будущем, поднабравшись мирового опыта игры и менеджмента, вернутся в основу наши доморощенные, которые смогут соединить в себе прошлое и будущее клуба. Уже в новейшие времена моя профессиональная деятельность неожиданно пересеклась с судьбой нашей баскетбольной команды. Как и все кони, я переживал историю с отравлением наших в Греции. Не понимал и по сию пору не понимаю бесхребетной реакции тогдашнего нашего руководства – надо было немедленно фиксировать следы преступления и сравнивать супостата с землей. Наверное, это был чисто совковый правовой нигилизм – уверенность, что по закону все равно ничего сделать нельзя. Все ограничилось плачем Ярославны в наших СМИ. А через пару недель пришлось мне на Центральной автомобильной таможне на Трубной оформлять документы на пришедшие для нашего Института химические реактивы. Огромные очереди, куча бумаг, и вот я уже проник к таможенному инспектору, которому нужно только шлепнуть на мою декларацию штамп «Выпуск». На беду, попался болельщик – в длинном списке реактивов он углядел слово «галоперидол» - и все! Вместо получения своих пузыречков отправился я по жаре в Комитет наркоконтроля, где мы с тамошними врачами крутили пальцами у виска, потому что галоперидол сроду не был наркотиком – это так называемый дофаминолитик. Но в «Совспорте» и СЭксе было написано, что наших отравили наркотиком, а газета в России – страшнее пистолета. Волейболистам так не повезло, как баскетболистам. Женская команда кое-как перебивается, а мужская рухнула куда-то в глубины низших дивизионов. А ведь за ее спиной великая история. ВИИЯКА[6] обессмертил свое имя, подарив нашему народу классика – лейтенанта Аркадия Стругацкого и великую волейбольную команду, ставшую потом цеэсковской. Я застал поколение абсолютно лучших в своем времени в стране и мире – супер-нападающего Юрия Борисовича Чеснокова, супер-разводящего Георгия Мондзалевского и игравших с ними Клигера, Нила Фасахова, Коваленко и Буробина. Это я, собственно, назвал состав непобедимой сборной СССР. Играли они долго, и казалось, что так и будет всегда. Игра мне тогда казалась очень простой – высокой наброс и пушечный удар. Наши набросы были самыми высокими, а удары – самыми пушечными. Все хорошее, однако, кончается, и наши гиганты один за другим сошли. Пришли новые, неплохие, но не экстра-класс, а враг копил силы и в один печальный день обрушился из-за угла. На этот раз это были другие прибалты – таллинский «Калев», который в самом конце сезона сошелся с нашими в решающем матче – последнем на моей памяти, который игрался на открытом воздухе – на кортах «Динамо». Мы налетели не только на амбициозную команду, ничего доселе не выигрывавшую и рвавшуюся к первому своему успеху, но и на новую методику игры. Я, по крайней мере, видел такое впервые. Вместо обычной, чуть не единственной системы игры на «раз – два – три», нам показали нечто необычное – почти не было высоких передач на края сетки, когда блокирующие успевают сместиться в сторону атаки и накрыть удар. Всякий раз таллинский разводящий Дилакторский показывал такую передачу, но едва мяч поднимался над тросом его забивал почти без замаха капитан эстов Пээт Райг или другой нападающий Каритс. Потом выяснилось, что это называется «атака с короткой передачи», но как с ней бороться придумали сильно позже, а пока мы уступили, всякий раз оказываясь беззащитными перед внезапным ударом. Прошло несколько лет, пока у нас снова собрался состав международного класса - москвич Паткин, Сибиряков из Одессы, Старунский из Киева, Олег Молибога и Ефим Чулак из ростовского СКА. Последний лупил с коротких передач лучше Райга. Они передали эстафету следующему поколению – Кузнецову, Сапеге и другим, вплоть до момента, когда на команду окончательно махнули рукой, и она рухнула. Начальница ЦСКА Смородская что-то обещала, в первую очередь по поводу восстановления мужского волейбола, что ж – флаг ей в руки и удачи! И, наконец, маленькое воспоминание еще об одном армейце. Был у нас среди огромного множества блестящих мастеров бокса один человек, не завоевавший особых титулов, но оставивший своеобразный след. В годы, о которых идет речь, чемпионом СССР и Европы был Евгений Горстков – нормальный игровик, не файтер, чистенько так боксировал, но пресновато. Удара у него не было, но по тогдашним правилам любительского бокса это было и не нужно. Выступал тогда и Игорь Высоцкий, как правило, Горсткову проигрывавший, но прославившийся тем, что регулярно лупил Теофило Стивенсона, непобедимого кубинского олимпионика. Вот у Высоцкого плюха была, но какая-то заказная – против Теофилы работала, а так – не очень. И был наш Петя Заев. Этот вечно был вторым – третьим, хотя отлупить мог любого, может, даже двух… Был Петя весьма своеобразной наружности – он здорово смахивал на судью из пластилинового фильма про бокс – такая глыба, не очень большая в высоту, увенчанная бритой наголо несколько асимметричной головой, и с необыкновенно длинными и тяжелыми руками. Отличался Заев то ли совершенной нечувствительностью к боли, то ли совершенным бесстрашием, а, может, тем и другим вместе. И вот в Москву приехал сам Великий и Ужасный Мохаммед Али, которого Советский Союз тогда в едином порыве очень любил, поскольку Великий серьезно собачился с родным американским правительством из-за Вьетнама и расовой дискриминации. Помимо главного аттракциона – встречи борца за права с дорогим Леонидом Ильичем - публике был предложен на сладкое бой Али против трех лучших советских боксеров-тяжей по раунду с каждым. Горсткова, который вышел на ринг, как обычно, поиграть, Али довольно основательно отметелил, хотя времени у него было – сущие пустяки. Высоцкий, который то ли заробел, то ли ему сказали, что бой дипломатический, тоже ничего показать не смог, а сам огреб. А потом Петя Заев вышел. Петя ни в какие дипломатии не входил, а просто решил воспользоваться редчайшей возможностью набить морду тому, кому никто морду набить не может, и просто-таки двинул пару раз своими ручищами. Попал не очень точно, но любое попадание в организм этих двух оглобель все равно вредно для здоровья. А дальше Петя совершенно распоясался и стал гонять Великого, периодически попадая уже прямо по физиономии. По общему убеждению, если бы Али в тот раз отдали Пете на полный бой, «большого друга Советской страны» отправили бы домой грузом «200». Кто знает, чтобы было бы, если бы на самом деле они встретились всерьез, Петя в жизни не дрался больше трех раундов, но в том единственном действительно был героем, и уж, во всяком случае, по сравнению с другими, которые у него в Союзе частенько выигрывали. Забавно, Заев и Высоцкий проигрывали Союз Горсткову, но «клиентом» Высоцкого при этом был Стивенсон, а Петиным, оказывается, - Мохаммед Али… * * * Все это длиннейшее отступление от основной темы – бытия болельщика ЦСКА как болельщика футбольного – призвано аргументировать нехитрую мысль: даже в самые тошные моменты нашей футбольной истории коню всегда находилось утешение, когда он припадал к необъятной груди родного клуба. И это я еще не поминал гандболистов, легкоатлетов, фехтовальщиков и бадминтонистов, которые тоже радовали и вселяли гордость за клуб, и ни у кого из болельщиков-врагов не было такого источника вечной радости и веры в будущее. Олимпиада вприглядку или Сага о втором орудииПотом приблизилась Олимпиада, начали ломать стадионы – марафет наводить. В 79-м нанесло к нам в лабораторию американскую профессорессу с очень своеобразным вкусом – по поводу культурной программы в Москве она высказалась самым нетрадиционным образом: «Нафиг Большой Балет, нафиг МХАТ – желаю ипподром, цирк и соккер». Я сначала даже слова не понял, а когда понял – взял на себя, хотя бы из уважения к таким вкусам дамы. Попали на ЦСКА – «Торпедо». Стадион производил странное впечатление – разгромленный Север, снятые скамьи, торчали только опоры от них. Народ весь загнали на Юг, сидели тесно, и оттого было ощущение переполненного стадиона, уже редкое в те времена. Профессор Антония довольно активно реагировала, она хоть и американка, но греческого происхождения, и основная идея ей была известна. Мне пришлось вести комментарий на тогда еще неизвестном мне английском, ничего, справился. Во всяком случае, рекламаций не было. Матч произвел странное впечатление. Наши бодренько пошли в атаку и подряд забили два гола, а потом вдруг, как по команде, все перевернулось, зевок в защите, ляп Астаповского, который уже был вратарем сборной – и 2:2. Между прочим, ходили нехорошие слухи, что «расписали» игрушку… Но я, честно сказать, никакой нарочитости не заметил. Да и играли мы в то время так, что от нас всего можно было ожидать. Следующего года я ждал, конечно, с нетерпением – Олимпиада вживую два раза на одну жизнь советского человека не выпадает. Мысль о том, что можно поехать на Игры за бугор у психически здорового человека возникнуть не могла (я, к тому же, сидел в «невыезде» аж до 89-го), я загодя стал бегать в профком, приставать к родителям, чтобы добыть билеты. Достал на две легкие атлетики, греблю и финал футбола, заплатив кругом-бегом рублей 100. Немало при зарплате в 135, да при наличии сына, но не катастрофично, тем более – раз в жизни.[7] Но еще до Олимпиады 3-го июня 80-го случилось удивительное совпадение – ровно через тридцать лет после моего рождения снова играли ЦСКА и Зенит, правда, на Песчанке – «Динамо» домазывали перед Олимпиадой. Как я такое мог упустить! Пошел, а они опять вничью сыграли – 1:1. Видно, судьба такая! А потом случилась у меня коллизия. Уже многие годы к тому времени я ездил в экспедиции на Дальний Восток, который хорошо узнал и полюбил. А на экспедиции в Заполярье все никак не удавалось раздобыть денег. И тут летом 80-го вдруг дают – на поездку в удивительное место – на Айновы острова, что у норвежской границы, но сроки накладываются на начало Олимпиады. Ах, какие были страдания молодого Вертера, однако ж научный долг победил! Поэтому смотреть Олимпиаду я начал издалека, а билет на греблю для меня пропал. Дело было в том, что в тех суровых краях обитал удивительной красоты морской еж – огромный алый или фиолетовый панцирь и фиолетовые с белыми кончиками иголки. И были у нас по поводу этого ежа некоторые научные планы. Долго ли, коротко ли – собрались, поехали: профессор, трое наших лабораторных дам, я и четверо водолазов. От Мурманска катили по знаменитым местам – Западная Лица, Титовка – «Долина смерти»[8], про которые читал у Симонова. От Печенги до Лиинахамари доплыли на танко-десантной барже. А вот там мы задружились с местными офицерами, и плыть нам уже пришлось не на Айновы острова, а на мыс Романов к капитану Коле на батарею из двух морских орудий калибра, что-то около 152 мм. На запад от батареи, километрах в 35, просвечивал норвежский берег, на восток – ясно читался полуостров Рыбачий, а на чистый север – два Айновых острова. Поселились в одном домике на полу. Раскидали рюкзаки и спальники и сели с командным и унтер-офицерским составом за стол. Выпили «с приехалом», потом за единение науки и флота, потом плохо помню… Ну, спирт, тушенка, какие-то откровенные разговоры, спирт, спирт, спирт. Часа в 4 утра стали расставаться, и командир сопроводил прощанье фразой, которую спьяну никто не понял и, уж во всяком случае, не придал ей значения… Однако ж, еще часа через четыре в дверь застучал вестовой матросик: «Командир батареи приглашает вас на стрельбы!» О, Господи! С похмелья, не жравши и не спавши толком, выползли из спальников и потащились на огневые. Сам батарейный городок располагался за обратным скатом сопочки, а пушки – на склоне, обращенном к океану. Сопочка довольно крутая, посля вчерашнего карабкаться было трудно, и думал я о капитане и его церемониях нехорошо. Все волшебно изменилось, когда до вершинки оставалось еще метров тридцать. С той стороны донесся до нас командный голос капитана Коли: «Батарея! Стрелять без мата! У нас в гостях женщины из Москвы!» И четкий рапорт комендора 2-го орудия: «Товарищ капитан! Второе орудие без мата не стреляет!» Тут мы полегли там, где ползли… Под команду «Заряжай!» мы-таки на вершинку выползли, кряхтя от натуги и тихо похрюкивая от уже полученного удовольствия, и расселись там, как на гостевой трибуне. Тем временем прислуга 1-го орудия загнала в казенник здоровенную гильзу, чтобы прожечь ствол от масла, и бабахнула. Очень громко. Из ствола вылетел красивый сноп пламени - видно, потому что без снаряда[9]. Второго выстрела все не было. Я перевел взгляд на второе орудие – там явно что-то было не так. Заряжающий тыкал гильзу в казенник, но она почему-то туда не хотела. Может, казенник новый, неразработанный - не пускал заряд. Комендор 2-го орудия суетился рядом, но без особой пользы. Капитан Коля ощутимо багровел – кому ж понравится позориться? Ситуация разрешилась самым естественным образом: комендор 2-го орудия, потеряв терпение, смачно и очень отчетливо гильзу обматюкал, и она сей же момент плавно скользнула в казенник. За поспешным бабахом 2-го орудия не было слышно, что сказал капитан Коля, да и слушать это было уже некому – «вся наша икспедиция» тихо корчилась на склоне от восторга. Стреляли, кстати по Малому Айнову острову с небольшой группкой мурманских биологов, но, видно, целились мерзко и ни разу не попали. Как потом мне капитан Коля рассказал, время жизни батареи в боевой обстановке – 2 залпа – это, включая заряжание и прицеливание – минут 10 … Потихоньку экспедиционная жизнь вошла в колею – водолазы стали погружаться, таскать разную живность: ежей на просмотр, моллюсков – на прокорм. Г-да офицеры весьма удивлялись, что такие вкусные штуки лежат прямо у них под ногами, такая закусь пропадает! Под хорошую закусь и пилось славно и регулярно. Как-то, чтобы оторваться от процесса, мы с водолазом Юрой поперли по сопкам в сторону торпедных галерей, построенных немцами в скалах Варангер-фьорда в 43-44-м годах. Строили-то, понятно, наши пленные, и все там и полегли. Шли мы по гребешку скалы – кругом полосы ржавой колючей проволоки, которую когда-то сбили с вбитых в камень железных кольев да так никогда за следующие десятилетия и не убрали. По крутой тропке спустились к входу в галерею. Внутри подземелье выглядело впечатляюще – длиной метров в 60, запросто может проехать грузовик. Перпендикулярно галерее отходят два коридора в сторону фьорда. В одном из них остались фундаменты двух торпедных аппаратов. Титаническая и совершенно бессмысленная работа – расчет был на перехват морского десанта во фьорд, а наши морпехи высадились на восточном берегу, перевалили через сопки и торпедистов перебили.
В промежутках между репортажами трепались с ним о том, о сем. Рассказал он мне, что его жена, когда на батарее, любит пострелять с крыльца из пулемета вон по тем бакам, метрах в трехстах. Полярной зимой – с прицелом ночного видения. Все бы ничего, вполне достойное развлечение для матери-командирши, но директриса на эти самые баки, основательно поковырянные пулями, проходила в аккурат над крышей одного из обитаемых домиков батареи и дорожкой, по которой матрозы ходят к морю. На мой вопрос, а как личный состав себя ведет во время таких упражнений, капитан Коля усмехнулся: «Пригибаются!» Отношения наши стали столь товарищескими, что был я удостоен приглашения в батарейную баню – попариться в руках лично товарища капитана. Баня, надо сказать, отстроена и организована была от души - только входишь в парилку шкуру и легкие обжигает так, что сразу сгибаешься, чтобы глотнуть воздуха хоть чуть похолоднее. А есть ведь еще и верхний полок, куда я и был водружен как почетный гость. Капитан сам взял в руки веник и принялся меня охаживать. По-моему, волосы загорелись сразу. Кислород в воздухе был разогрет до такой температуры, что толку от него не было никакого. Видно, я заколготился сильнее положенного, потому что последовала команда: - Обрез ученому! Обрез - это такая блевательница, что-то вроде круглодонной миски. По преданию сам Нельсон плавал с обрезом, потому что укачивался. В данном случае в обрезе была вода, которую можно было плескать себе в физиономию и таким образом как-то терпеть. Веник, которым мне доставалось от капитана, температуру шкуры увеличивал дополнительно, и в результате я соображать перестал совершенно. Когда капитан счел, что с меня довольно, последовала команда: - А теперь дуй в море! В том состоянии я бы и в пекло прыгнул. Подумаешь! Буквально, как ошпаренный, я вылетел из бани и плюхнулся с нескольких шагов в протекающий рядом Ледовитый океан с температурой, по летнему делу, где-то 8 – 9оС. Судя по шипению, сопровождавшему мой вход в воду, она закипела. В этой паро-водяной смеси я довольно активно замахал руками-ногами и уплыл на пару десятков метров от берега. Потом за бортом стало ощущаться что-то вроде окружающей среды, и я сообразил, что пора поворачивать оглобли. К берегу подплыл с ясным сознанием, что плыву в воде, но довольно горячей. Теперь имею полное право рассказывать, что купался в Ледовитом океане… Залетел обратно в баню, где, как оказалось, кэп меня ждет, поскольку теперь моя очередь его парить. Интересно, когда пришлось работать веником самому, это оказалось легче, хотя голова находилась намного выше полка и должна была, теоретически, отгореть напрочь. Может, это «эффект занятости делом», как на Дальнем Востоке, когда все укачались на мотоботе, а я - нет, потому, что стоял на штурвале. То есть понятно, почему они укачались, но я-то был, как огурчик, хотя на качку слаб. На следующий день мы расслаблялись у своего домика после интенсивного отдыха, когда приметили престранную картину: внизу, недалеко от берега, кучнились матрозы. Голые. Дни хотя и стояли солнечные, но это все же был не Крым. Матрозы совершали активные телодвижения, смахивающие на африканские пляски (особенно с учетом танцевальных костюмов), а вот шумовое оформление было, как раз, вполне российское, даром что «в гостях женщины из Москвы». В конце концов, невозможно же все время рот держать закрытым. Что там у матросов происходит, мы бы так и не узнали, кабы не бежал близехонько капитан Коля. На вопрос, отчего его подчиненные пляшут там на берегу хулу, он пояснил, что на батарею грядет флотская комиссия, а робы выцвели вконец и своим нежно-голубым цветом могут вызвать высочайшее неудовольствие. Оттого-то вон в том чану, под которым горит костер из ящиков б/у, и вокруг которого совершается пляска, форменки вывариваются в синьке, а поскольку других роб у матросов нету, они пока так согреваются. Результаты этой лакировочной деятельности обнаружились поутру, когда личный состав напялил на себя подсохшее. Определенно, получился камуфляж – все в разводах от темно-синего до исходно-голубого, так что в волнах такого матроса различить практически невозможно. Подошел мне срок возвращаться – остальные еще понапрягались там с неделю, я же вез первую партию материала для работы в Москве – у меня горели билеты на легкую атлетику. Груз вместе с рюкзаком весил килограммов тридцать, то есть половину моего собственного веса, но сначала на рейдовом катере до Лиинахамари, а потом – на танко-десантной барже до Трифоново – это было несущественно. Суровые испытания наступили, когда с ТДБ пришлось слезть. Автобус для дивизионных был набит, да и постеснялся я лезть к крикливым командирским бабам, которые всячески намекали, что не фига тут делать всяким штатским, да еще с таким толстенным грузом. Взгромоздил я сумку-холодильник с морскими ежами на клапан абалаковского рюкзака и потопал к Печенге. Идти там вокруг мелководного залива, по которому и ТДБ не проходит, километров 6. Поначалу шел мерным солдатским шагом, незаходящим солнцем палимый, потом груз стал пригибать к земле, потом пришлось останавливаться каждые пару сотен шагов – передохнуть, потом захотелось пить и жрать. А мимо все перли грузовики с каменнолицыми шоферами и надписями на дверях кабин: «Приказ командира! Пассажиров не брать!». Так бы я там и сдох под грузом редких животных, если бы вдруг, уже примерно в километре от Печенги, не затормозил рядом со мной грузовик с веселым водителем, который и домчал меня мигом до самого танка на выезде из Печенги по дороге на Колу. Правда, мужик сочувственно сказал, что пожрать в Печенге за поздним временем уже негде, а последний автобус на Мурманск давно отвалил, и следующий будет утром, да не ранним. Обнадежил, однако, что машины на трассе бывают. В компании двух поддатых добродушных мужиков, едущих с рыбалки, дождался я «Москвичонка», за рулем которого сидел толстый майор-пограничник. Майор, снизойдя к офицерскому военному билету и бумаге из Института, взял меня без очереди. Ехал он, правда, не в Колу и не в Мурманск, а куда-то в секретную сторону, но пообещал сдать меня в Титовке погранцам, которые запросто подсадят на любую машину к аэропорту или на трассу. После естественных вопросов, что за хреновину тащу я в Москву с такой помпой, разговор перетек на местные реалии. Тут я вежливо поинтересовался отгадкой загадки, которая меня мучила последние часы. Отчего, спросил я, в Атласе дорог СССР автодорога от Печенги до Лиинахамари есть, а в натуре – танко-десантная баржа. Майор как-то засмущался и стал чего-то мямлить. Ну, решил я, спросил, верно, что-то такое, чего знать мне не положено. Не знаю, уж что заставило – ночная ли тоска и желание поговорить или доверие к человеку с офицерским военным билетом, но майор вдруг решился и, оговорив конечно, что трепать об этом не следует, объяснил. Дело в том, что дорога, и вправду, была. Строили ее еще финны, когда все это место было Петсамо. Представляла она собой вырубленный в скале уступ и, соответственно, была прочна, как скала. Но вот в запрошлом очень снежном году перемело все к етакой матери, и надобно было посреди зимы ее чистить. То ли техники не было подходящей, то ли терпения этим заниматься, но решили по-военному – взорвать заносы, и вся лавочка. Дозировку выбирали по принципу: «неизрасходованную взрывчатку все равно куда-то списывать». Так и сделали. Снег, понятное дело, в результате принятых мер улетучился, но он еще нападает, а вот двести метров дороги улетели куда-то в пропасть, и они-то сами собой обратно не вернутся. Это вам не равнина – засыпал ямку и поехал – тут надо скалу по новой грызть и обустраивать. Вот и ездят вокруг мыса на барже, случись чего – в Лиинахамари и подвоза никакого не будет. Хорошо – потенциальный противник еще не прознал… С тем и приехали на КПП «Титовка», где был я сдан наряду с суровым командирским наказом пристроить на транспорт до Колы или Мурмашей[10]. За оставшимися в последней пачке московскими сигаретами и легким трепом с сержантом и бойцом провели мы в их сторожке с полчаса, после чего отбыл я со своими бебехами на отловленном для меня погранцами грузовике. В аэропорту под прилавком кассы прокемарил до шести утра, когда на первый московский рейс бронь стали снимать. А у меня и прописка, и командировочное, и предписание оказывать сотруднику Академии содействие. А прочим – фиг, потому что в столице нашей Родины – Олимпиада, и всякой неорганизованной сволочи делать там нечего, видом своим непрезентабельным пейзаж портить да лимитные деликатесы в магазинах подметать. Через день я уже сидел на трибуне Лужников. Жара стояла тридцатиградусная, и наши под шумок по примеру иностранцев разделись по пояс, чего раньше никак на трибунах не допускалось. А на дорожке бежали 10 000 метров, и им-то никак майки было снимать нельзя. Вот Лассе Вирен, рекордсмен мира, гляжу, как-то в раскачку побежал, потом упал от перегрева, да к нему еще и никто не подходит, потому что упал в углу, и трупоносы его не разглядели. Это – что, вот в бане на мысу Романов, вот там было жарко, а тут – ерунда, нежные они какие-то, эти скандинавы. В следующий раз оказался на Южной трибуне, как раз напротив сектора для прыжков с шестом в гуще офонаревших польских фанов, сучащих ножками в предвкушении победы. Американцы, которые были тогда фаворитами, отсутствовали, звезда Бубки еще не взошла, и поляку Козакевичу упорно сопротивлялся только наш Константин Волков. Поляк победил – лучше бы мне сидеть на Севере, там как раз Киселев выигрывал нашу первую золотую в ядре, а здесь чуть не оглох от рева «Ешче Польска не згинела!» Конечно, ждал-то я футбола, но с самого начала возникло какое-то нехорошее ощущение – игра у нас была какая-то унылая. Вроде выигрывали, но ни огня, ни выучки – киевская модель, но без динамики. И кончилось это плохо – в полуфинале 90 минут проутыкались в ГДРовскую защиту, будучи не в состоянии что-то свежее придумать, имели всего один момент, но не забили, зевнули чуть не единственную контратаку – и все! И остался я с билетом на финал, как дурак. Пошел, однако, ведь не гнить добру! Болел за чехов и по симпатии, и в отместку за то, что немцы наших выбили. Мои выиграли, только радости от этого было хрен целых ноль десятых. Сами виноваты! И еще одна золотая, считавшаяся перед Играми чуть не гарантированной, нам улыбнулась. Все были уверены, что дома, после Мюнхена да в отсутствие американцев в баскете мы всех порвем на маленькие кусочки. Сергею Белову, армейцу, капитану нашей сборной, доверили олимпийский огонь зажигать. Можете мне поверить, по тогдашней системе ритуалов это означало, что руководство от него однозначно ждет победы. А ребят, похоже сгубила как раз избыточная уверенность или вот это всеобщее ожидание успеха – когда пришлось туго не сумели справиться с ситуацией. Тем не менее, нагляделись мы тогда наших славных побед – отчасти потому, что здорово подготовились, отчасти – потому что американы и их сателлиты нас проигнорировали, и конкуренция была с ГДРовцами и прочими социалистами, а это уже совсем другой коленкор. Американцы не приехали из-за нашего вторжения в Афганистан, за ними последовали и некоторые их союзники, а приехавшие западники демонстративно на парадах шли не под национальными знаменами, а под олимпийскими флагами и с табличками с надписью «Команда Олимпийского комитета страны такой-то». От всего этого было какое-то ощущение ублюдочности происходящего. Не знаю, кого хотели обидеть американцы, но меня лично они огорчили. Впрочем, первопричина в данном случае не в них, а в нас. Это наши старые маразматики полезли в страну, про которую любой хоть немного изучавший историю, знает, что туда лезть нельзя ни при каких раскладах. Последствия и в этом случае оказались катастрофическими, и олимпийский бойкот – только их первая маленькая ласточка. Ожидавшегося нашествия иностранцев по тем же причинам не случилось - приехало их намного меньше, чем планировали, а тех, что приехали, легко было от наших изолировать. Зато в городе было полное благолепие – чистота, народу мало (иногородних не пускали, а тех, что здесь уже были – выперли), в магазинах – диковинные продукты, которых до того никто не видел (и после – тоже). Понастроили тогда немало – нам перепал УСК, на проспекте Мира появился Олимпийский комплекс, в котором потом не раз был я на футболе зимой и весной, где прошел в 90-м бессмертный матч наш с мясом – проигранный, но великий, начавший для меня новую эру настоящего ЦСКА. [1] Жак Плант – один из классиков канадского вратарского искусства 60-х гг. [2] Владимир Брежнев – не путать с Леонидом Ильичем Б. Защитник ЦСКА и сборной, игравший под номером 6. Надежный и агрессивный игрок, в сборную пробился поздно, но закрепился там прочно. [3] Старовойтов – в прошлом наш хоккейный защитник, потом один из авторитетнейших судей, а в конце карьеры – функционер федерации [4] Акромегалия – нарушение развития, связанное с продолжением выделения гормона роста, когда формирование скелета уже в основном завершено. В этом случае продолжают увеличиваться те части скелета, в которых хрящ наиболее поздно замещается костью: нос, фаланги пальцев, нижняя челюсть [5] Грюнвальд, Зеленый Лес и Жальгирис – одно и то же на разных языках (немецком, русском и литовском) [6] Военный институт иностранных языков Красной Армии [7] Когда редактировал этот текст для печати, разбирал письменный стол и нашел в нем билет на финал Олимпиады по футболу. Написано – 12 рублей и надпечатка «скидка 70%» - такие делались на билетах, которые распространяли через профкомы, но я-то его купил с рук за 25. [8] Рубеж наибольшего продвижения немцев в 1941 г. Здесь их остановил огонь морских батарей, спешно развернутых с моря на сушу. Там располагался единственный участок нашей западной границы, который немцы так и не смогли перейти. [9] Пушки раздельного заряжания [10] Мурмаши – аэропорт Мурманска
|
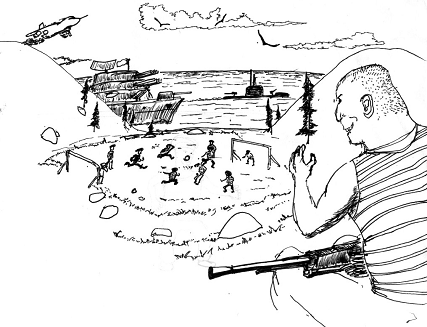 Между тем Олимпиада началась. Капитан Коля как радушный хозяин позвал к себе в домик смотреть репортажи по телевизору и вечером даже велел главстаршине крутить движок после 23.00, чтобы смотреть вечерние трансляции. На церемонии открытия (а потом и закрытия) я больше всего переживал за «Живой фон» – как ветеран движения. Чувствовалась знакомая рука, только выдумки да средств вколочено побольше.
Между тем Олимпиада началась. Капитан Коля как радушный хозяин позвал к себе в домик смотреть репортажи по телевизору и вечером даже велел главстаршине крутить движок после 23.00, чтобы смотреть вечерние трансляции. На церемонии открытия (а потом и закрытия) я больше всего переживал за «Живой фон» – как ветеран движения. Чувствовалась знакомая рука, только выдумки да средств вколочено побольше.